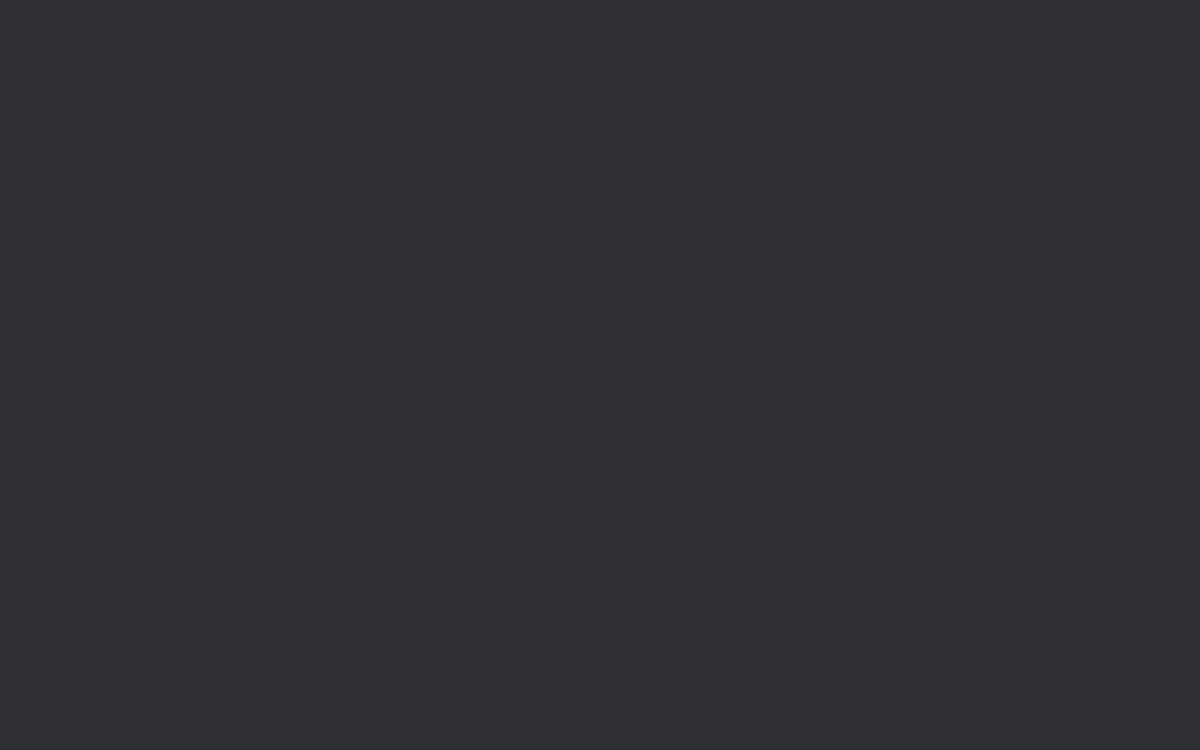— Мы с тобой знакомы больше 30 лет и не будем делать вид, что это не так. Ты помнишь, как мы познакомились?
— Я помню тебя беременную Филей.
— Это было 37 лет назад, 1982 год. А помнишь историю с костюмом зайца?
— Ты делала мне уши для зайца. Когда твои родители вернулись из ссылки, у вас дома были рождественские вечера и спектакли. И я участвовала и переживала, что все герои, а я играю зайца. А потом, после этого спектакля, ты рассказала мне про воскресную школу, и я туда лет пять ходила вместе с твоими детьми.
— Да, помню, это была такая полуподпольная воскресная школа, ее вел священник, отец Олег Стеняев. А ты потом от веры не отходила?
— Нет, никогда.
Я просто настолько пропиталась человеколюбивым отношением Бога к нам, что очень многое в РПЦ мне категорически чуждо.
И прошло очень много времени, пока я поняла, что в Москве есть храм, где мне комфортно. И к счастью, не один. Это и храм Сергия Радонежского в Крапивниках, и Космы и Дамиана в Столешниках. А вот теперь и храм Троицы в Хохлах. Там, если даже ты пришел туда в первый раз, ты нисколько не почувствуешь себя чужаком.
Вечный герой моих эпических рассказов — баба Маня из нашей деревни Никитино. Всю жизнь она была очень верующей, и когда уже совсем еле ходила, она обязательно хотела быть в церкви на престольный праздник 19 августа — Преображение Господне. И всегда надо было везти ее в Спасо-Смердино, в наш храм. И как-то я везла ее обратно со службы. И она говорит:
«Вот я из последних сил езжу в храм, а помню, была в Петрове, в туалет там пошла. И вот захожу туда, и там в этой вони, в этой грязи стоит женщина, лбом уперлась в деревяшку и молится. Какая разница, где молиться? Почему я должна из последних сил в храм ездить? Мне приятно, но я потом лежу неделю. А она в туалете молилась. Может, тебя оттуда лучше услышат?»
И когда я много лет не могла понять, куда мне приткнуться, меня эти слова бабы Мани все время успокаивали. Я вспоминала их и думала, действительно, какая разница? Если в туалете можно молиться, то и дома можно.
Удивительно, что со мной произошло за последние три-четыре года, как папы не стало, и когда масштаб работы стал другой. В последние пару лет у меня совершенно стал иной посыл в общении с Богом.
У меня, кроме «спасибо», ничего нет, только «спасибо» осталось.
— Мы хотели с тобой говорить о хосписном движении, созданном твоей мамой Верой Миллионщиковой, выведенном тобой на иной, более глобальный уровень, но политика вмешалась в наши планы. Ты идешь в Мосгордуму и официально о своем выдвижении объявишь в начале июня. И в прессе уже написали, что ты вроде бы будешь выставлять свою кандидатуру в 43-м округе, где находится Первый московский хоспис. Об участии в выборах именно в этом округе уже заявили два кандидата от оппозиции — юрист ФБК Любовь Соболь и зампред партии «Яблоко» Сергей Митрохин. 7 мая 2019 года Алексей Навальный написал тебе открытое письмо, в котором попросил не участвовать в выборах в 43-м округе:
«Люди, которые хотят использовать Вас, — злодеи, обманщики и воры. Сейчас они хотят украсть и Ваше имя, и взять в заложники людей, которым Вы помогаете всю свою жизнь. Не давайте, пожалуйста, им этого сделать. Это принесет большой вред и Вам, и Вашему делу, и всем нам».
Что скажешь?
— Ключевая проблема в том, что меня сейчас очень многие намеренно втягивают в какую-то борьбу и противостояние с Любовью Соболь, которые ни мне, ни ей не нужны. Мы в совершенно разных работаем плоскостях.
У Алексея Навального и его команды — а Любовь, как я понимаю, относится к его команде — все достаточно просто. Ты или против власти, или ты за власть.
И дальше появляется какая-то конкретика для борьбы. Сейчас, например, это питание в школах — и противостояние с властью идет через это.
А я вообще в другой плоскости живу, понимаете. Я не за власть и не против власти. Я за людей, которым не до власти, которым все равно, какая власть. Нет никакого соревнования между нами — оно надумывается искусственно, для того чтобы привлечь внимание ко всей этой ситуации. Мне это кажется лишним.
Все, что называется «компромиссами во взаимодействии с властью», для меня вопрос не компромисса, а объема помощи, которая может быть оказана в наиболее сжатые сроки. К сожалению, невозможно целый пласт помощи развить, не взаимодействуя с властными структурами, не касаясь политики. Почему «к сожалению»? Потому что, конечно, я бы хотела, чтобы это все уже было давно сделано, а я бы просто работала в поле, в палатах с пациентами и их родными.

Тебя не устраивает власть — ок, ты так или иначе с этим борешься. А меня вот не устраивают качество и объемы помощи в конце жизни.
Меня не устраивает то, что, несмотря на огромное количество громких заявлений, у нас есть учреждения соцзащиты, учреждения здравоохранения, которые по-прежнему закрыты для родственников и волонтеров.
Я выбираю помогать тем, кому хуже, кто слабее, тем, кто имеет право очень на многое, но совершенно не имеет никаких инструментов для того, чтобы это свое право реализовать. И Дума для них может стать таким инструментом. И я хочу заниматься этим, а не борьбой.
И когда мне говорят — ну вот, вы же поддерживаете, вы же… Я благодарю тех, кто принес мне табуретку, тех, кто до этого дал мне молоток и сказал — послушай, молотком же лучше, чем кулаком стучать. И я буду за это благодарить. Это нормально. Будет помогать федеральное правительство — буду ему говорить спасибо. Будет помогать московское — буду ему. Они действительно помогают, и хорошо. Мне невероятную радость доставляет то, что сегодня не нужно ссориться с властью, чтобы продвигать идеи паллиативной помощи. Это прекрасно. Я буду бороться с отсутствием знаний у медиков, с отсутствием информации у людей. Буду бороться за то, чтобы соблюдались права тех, кто сам за себя постоять не может.
Опять же — эта борьба предвыборная не может быть за кресло. Она может быть только за людей. Пусть люди и выберут, что им важнее.
Ну, очевидно же, что и Любовь, и я продолжим заниматься своей работой вне зависимости от результатов выборов. У меня будет табуретка или у нее. Потом поменяется.
— И все-таки, не понимаю, зачем для этого именно Мосгордума?
— Когда мне предложили стать кандидатом в депутаты, я сначала отказалась. В моем понимании Мосгордума была импотентным органом, который голосует за бюджет города не глядя. Я считала, что это бессмысленная ерунда, которая будет мне только мешать работать. Но это не так. Москву, с одной стороны, вся страна не любит, а с другой стороны, как ни крути, именно Москва задает определенные тренды. Если в Москве сделали, то дальше потихоньку начнется везде. Соответственно, если мы с помощью депутатского мандата зайдем внутрь всех социальных учреждений, проведем независимый аудит, начнем здесь реформировать, открывать, структурировать, реорганизовывать, то в регионах этот опыт воспроизвести будет проще. Мы можем выявить потребность в паллиативной помощи внутри соцучреждений; начать оказывать помощь людям, которые живут там и сейчас не получают никакой медицинской помощи, не только паллиативной.

Если мы с другими фондами сможем разработать и провести через Мосгордуму закон о благотворительности, то и другие регионы смогут. К примеру, фондам нужны офисы. Вот нашему фонду город дал офис, и еще нескольким фондам — и мы действительно будь здоров работаем на этот город, во многом похлеще, чем какие-нибудь государственные структуры. Но почему только нам, а остальным нет? Да вон у нас в центре Москвы сколько заколоченных зданий, которые могли бы приносить пользу. Кроме того, фондам нужна информационная поддержка, социальная реклама.
Москва может — и должна в силу своей лучшей социальной защищенности — быть законодателем. Она должна быть законодателем всего, что про человека.
Потому что у нас возможностей больше.
— Я не верю, что в России сегодня возможны свободные выборы, власть их не допустит. Любовь Соболь ни в каком округе не может победить. И для меня очевидно, что тебя «направили» в этот округ, чтобы потом сказать: вот смотрите, эта Соболь проиграла не потому, что сработал административный ресурс, а потому, что Федермессер гораздо более популярна. Тебя не ранит, что будут говорить, что ты подыгрываешь власти?
— Нет, сейчас меня вообще это никак не ранит. Мне была сделана могучая прививка товарищем Пархоменко после того, как я вступила в ОНФ. У меня теперь иммунитет на всю жизнь, и больше нападки со стороны либеральной общественности меня никогда не будут задевать, огромное ему спасибо.
Вообще тут нужно отступление. Я очень много говорила, что занимаюсь паллиативной помощью и не занимаюсь политикой — это, конечно, не совсем так. Помнишь, когда мы впервые все вдруг сплотились, все гражданское общество, разные НКО? Когда был принят людоедский «закон Димы Яковлева». Мы вышли на марш, мы возмущались, только мы ничего не смогли поменять, потому что мы сплотились, когда закон уже был принят. И я запомнила вот этот день и наш марш похоронный по Бульварному кольцу. Я его по шагам помню. И хорошо помню ощущение стыда и бессмысленности этого действия, потому что после драки кулаками не машут. Надо противостоять или менять, а не уныло и торжественно принимать этот беспредел.
Я тогда не знала про сайт regulation.gov.ru, где якобы для общественного обсуждения вывешиваются какие-то законодательные инициативы. Это сейчас мы его каждый день мониторим: я смотрю, какой очередной «закон Димы Яковлева» будет выходить. Реагировать надо ДО того, как что-то приняли. И когда через пару лет началось обсуждение законопроекта об иностранных агентах, который угрожал бы работе многих благотворительных фондов, то мы все среагировали вовремя, на этапе обсуждения. И мы его все-таки изменили. И можно сколько угодно говорить, что это просто так сложилось. Нет, это не сложилось, это мы так сложили.
Мы подняли такую волну, что этого не случилось. В том числе потому, что благотворительные организации сегодня — это огромная сила. Это уже давно не «третий сектор». С социальной точки зрения мы — первый сектор. В России социально ответственные некоммерческие организации — это не Минздрав и не Минтруд, это благотворительные фонды. Мы меняем и формируем законодательство, а законотворческая деятельность не может не быть политической. Много лет назад фонд «Подари жизнь» занимался изменением законодательства по донорству крови, по трансплантации костного мозга, занимался правом мам оставаться на больничном вместе с детьми не три месяца, а весь период тяжелой болезни, занимался правами женщин, рожающих в тюрьмах. Вместе с фондом «Вера» мы изменили законодательство, сделав обезболивание доступнее. Без фонда «Вера» не было бы у нас сейчас в законе расширено понятие паллиативной помощи — теперь там прописано право и на медицинскую, и на социальную, и на психологическую поддержку.
Так что взаимодействие с властью началось давно. Задолго до того, как Собянин пришел с визитом в хоспис.
И даже до того, как я согласилась на должность директора Центра паллиативной помощи в Москве.

Знаешь, соглашаться на это было очень страшно. Я рада, что это случилось после смерти мамы и папы, потому что, кажется, папа бы умер просто от стресса. Но сейчас — я счастлива. Это очень мое место. И сделать удалось многое. Главное — все хосписы в Москве теперь одинаковые. И это бы не случилось без помощи московского правительства, поэтому поддержать Собянина для меня было абсолютно органично. Вообще-то меня мама научила, что, если мы ходим в гости, на день рождения или еще куда-то, на следующий день надо обязательно человеку позвонить и сказать: большое спасибо, мы очень хорошо посидели. Если тебе кто-нибудь помог, что-то сделал, подарил — скажи «спасибо». Благодарить приятно.
— Что Собянин тебе подарил?
— Он мне ничего не подарил. Но то, что в Москве развитие паллиативной помощи получило поддержку, — это не без него. Безусловно, и мама Лужкову говорила «спасибо». Кстати, когда так некрасиво его убрали, то мама в своей эмоциональной стилистике отправила ему телеграмму. И всех сотрудников собрала и сказала, что если бы не Лужок, то никаких восьми хосписов в Москве бы не было.
Во время предвыборной кампании Собянина у меня не было ощущения, что я иду против каких-то своих принципов. Для меня главное — оставаться в рамках заданной темы.
А вот по поводу вступления в ОНФ сомнения, конечно, были.
Но мне очень сложно дался приоритетный проект по паллиативной помощи, и я переживала, что он не был в итоге принят, а деньги, выделенные на паллиативную помощь, были направлены только на оборудование и обезболивание, а не на аналитику, обучение и развитие помощи на дому. Поэтому я была рада возможности изменить это. И проектом «Регион заботы» я чрезвычайно довольна.
— Мы с тобой сидим в кабинете твоей мамы, ты говоришь, что приходишь сюда работать, но никогда не сидишь в ее кресле. Что изменилось с тех пор, как ее нет?
— Мамы нет уже восемь с половиной лет. Изменилось многое и в сфере ухода за умирающим, и в сфере лечения. Но идеология все та же. Вот эта end of life care — помощь в конце жизни — идеологически не меняется. Меняются интерьеры хосписов. Мама называла это «обстановка, максимально приближенная к домашней». Мы стараемся это везде сделать, хотя бы в Москве.
Сейчас, слава богу, уже в Питере пара хосписов как-то перешла на светлую сторону силы. Потом Поречье (хоспис в Ярославской области. — «Новая») — самый удивительный пример, самый теплый, самый удачный из всех. А по итогам моих поездок могу сказать, что лучший хоспис у нас в стране — в Казани. Он построен с нуля, с учетом всех правильных требований и пожеланий. Там этим занимается совершенно замечательный Володя Вавилов, у которого много лет назад умерла от рака маленькая дочка. Сначала он организовал благотворительный фонд помощи детям, больным онкогематологическими заболеваниями, а потом уже сделал детский хоспис. И затем взрослый хоспис. Они находятся в одном здании. Мы привыкли говорить, что такое объединение противоречит принципам хосписной философии, потому что детям нужно совсем не то, что взрослым. Но у него разные подходы и разная потребность реализуются в разных «крыльях» здания. Там огромный холл в центре с зимним садом, со стеклянным куполом. И то, что можно соединять людей на какие-то мероприятия, например, на Новый год, это здорово.
— Мама знала Вавилова?
— Я думаю, что они пересекались, но не думаю, что они были хорошо знакомы. Может быть, виделись пару раз. Мама детским хосписом не сильно успела позаниматься.
— Люди в регионах, которые работают в хосписах, они все мамины ученики?
— Те, кто воспринял мамину философию, те, кто стал «апостолом паллиативной помощи», их много. Но у нас и страна огромная. Если это руководитель хосписа, или заведующий отделением, или главный специалист, то это, к сожалению, не означает, что он во всем городе, во всей республике, в субъекте сможет наладить систему. Ведь мама тоже системно к этой работе не подходила. У нее не было ни амбиций, ни тщеславия, ни внутреннего ресурса на то, чтобы развивать это на всю страну или хотя бы на весь город.
Хотя в Москве при маме было уже восемь хосписов. Она говорила, что кому надо учиться, тот придет к ней, посмотрит, научится и сделает. И в этом есть много правды. Никакое знание навязать невозможно. Масса людей по всей стране живут, как мама. Жутко страдают от того, что у них где-то урезали финансирование, где-то их из паллиативного отделения перетащил руководитель больницы в другое отделение. В Центре паллиативной помощи работает Светлана Петровна Гуркина, она занимается стационаром. И когда я ругаюсь: «Ну что вы молчите, вы что, не понимаете, что человеку нужно это? Что значит — правила? Что значит — нельзя?» — она спокойно, с невероятным чувством собственного достоинства, отвечает: «Вы знаете, Анна Константиновна, вообще-то не все на танке родились». Люди не хотят бороться или не умеют, не считают нужным. И вот они стараются в заданных условиях реализовывать эту философию. Это очень трудно.
— Твоя жизнь резко изменилась три года назад, когда ты стала чиновником, когда ты поддержала московское правительство и Собянина, потом вступила в ОНФ.
— Я не стала чиновником, я госслужащий, это немножко другое. Надеюсь, чиновником не стану. Не потому, что все чиновники сволочи. Я уже сейчас понимаю, что это, мягко говоря, не так. А потому, что должность очень сильно отдаляет человека от земли.
— Какая разница между чиновником и госслужащим?
— Чиновник — это человек, который сидит в кабинете, занимается бумагами и документами. А госслужащий — это тот, кто руководит госучреждением.
Я все-таки от больных не отделена, а чиновник отделен.
— Когда ты вступила в ОНФ, тебя очень много критиковали. Я тоже была этим шокирована, написала такую очень резкую статью, но не стала публиковать. Теперь я рада, что не опубликовала, потому что все не так однозначно, как я теперь понимаю. И вот ты ездишь с представителями ОНФ по стране в рамках программы «Регион заботы».
— Да.
— Я читала твой дневник в фейсбуке, он потрясающий. Что самое ужасное из того, что ты там увидела? И что самое прекрасное?
— Благодаря проекту «Регион заботы» я попала в такие точки страны, в которых бы раньше никогда не оказалась. Там я столкнулась, с одной стороны, с невероятным равнодушием и пассивностью. А с другой стороны, увидела людей бесстрашных. Такое человеколюбие, милосердие, сострадание. И даже люди, которые что-то делают такое позитивное, они в этих терминах не мыслят. Ты ждешь, ну как же, человек живет в этой нищете, в этой грязи, в этой забытости, когда он уже возьмется за вилы и пойдет с вилами на барина?
А он вдруг вместо того, чтобы взяться за вилы, приходит с работы домой, варит остатки своей домашней картошки в маленькой кастрюльке, несет бегом эту картошку пациенту, который у него лежит немытый, вонючий, засратый. Он умирает, он картошки захотел. Надо успеть покормить.
Кроме того, я поняла, насколько физически я привязана к этой земле и к стране. Ты наверняка слышала рассуждение Люси Улицкой про патриотизм. Патриотизм в прямом смысле в земле, в почве. Он связан с тем, как мы себя чувствуем, когда мы возвращаемся на ту землю, на которой мы привыкли жить, из этой земли пить воду, из этой земли есть картошку, посыпанную укропом. Ощущение себя меняется на этой твоей родине, патриотизм вот в этом. Я почувствовала, насколько мне до жуткой сентиментальной боли дорога вся вот эта земля. С ужасом Колымы, с ГУЛАГом, с чудовищными остатками войны, блиндажами на Сахалине, на окраине финской границы в фантастической красоте Финского залива, сосен, выглядывающих из-под снега густых зарослей черники. И вот чуть в сторону глаза отводишь, а там блиндажи — остатки войны. От этого и до жителей подмосковных деревень, в которых многие не видели никакого другого горя, кроме пренебрежения государства к их жизни. Но ведь и для нас, москвичей, особенно живущих в центре, для нас житель условной Лобни не отличается от таджика. Таджик улицы метет, а житель Лобни санитаркой в больнице работает. Мы же без них не сможем. Странно это говорить, но я их люблю.
— Что это значит?
— На самом деле, ты не чужую боль чувствуешь, ты свою боль чувствуешь. И свою боль хочешь убрать. Просто одни люди убирают свою боль, закрываясь, а другие убирают свою собственную боль, пытаясь изменить жизнь. Это не про любовь к другим, это про нежелание чувствовать несправедливость. Я это все больше чувствую, и этому все больше содействует проект «Регион заботы».
14 апреля
Я езжу по дорогам, которые Росавтодор почему-то игнорирует. По учреждениям, которые не замечают местные власти. Вижу пациентов, которых забыли даже родные, чего уж хотеть от медиков и соцслужб.
И чем больше я вижу, тем больше у меня размывается понятие нормы. Когда мы первый раз уезжали из Москвы два месяца назад, нормой был наш, на ул. Доватора, Первый хоспис. Там норма — это, когда не страшно. А не страшно состоит из «не больно», «не стыдно», «не одиноко». Норма, когда хоспис — это дом. Когда есть кого держать за руку. Когда доступ родственников 24/7 — это настолько очевидно, что даже слово «доступ» становится уже каким-то искусственным. И фразу «Жизнь на всю оставшуюся жизнь» не нужно уже декларировать. В хосписе — не нужно. Может быть, нужно на лекциях. Может быть, в интервью. Но не в хосписе. Хоспис — это уже место Бога. В хосписе это само собой разумеется. Это место любви.
Но мы ездим, смотрим… Я в этих поездках впервые поняла, что на самом деле значит мамина фраза «Как человек живет — так он и умирает». Ты вот едешь по российской глубинке и видишь дом, в котором горит свет, ковер на стене висит, на диване тетка сидит в халате пестром — телевизор смотрит, и все это видно нам через окно машины, когда мы проезжаем, а у ее дома — завалившийся покореженный забор. Ну разве сложно встать с дивана, мужа попросить? У нее забор покореженный, у нее корова не чищена — вымя грязное, всё в говне. Забор поправить и корове вымя помыть — денег не стоит. Конечно, когда эта женщина придет на работу, в отделение сестринского ухода, будет она пациента моего мыть? Она себя не моет. Она себе пятки не скребет — разве она будет их чужому деду скрести?
И все равно именно эти тетки в халатах работают в медицинских, в социальных учреждениях. И знаете, они меняют белье по графику. Они пациентов кормят тоже по графику. Они с огорода, по осени, принесут — кто свеклу, кто картошку, кто цветок из сада, чтобы хоть как-то этим старикам одиночество скрасить и забытость преодолеть.
И это все такая чудовищная жалость… Это такая генетическая нищета… Такая вечная долготерпимость.
А вдруг натыкаемся на Наталью Александровну из Козлово под Тверью, которая говорит: «Все будет хорошо, я буду молиться. А что делать — это же наши старики… Ну как мы без них». У меня эта фраза в ушах стоит до сих пор.
Для меня самое тяжелое — это ощущение вот этой вот размытой нормы. Ты здесь видишь немытого вообще старика, пусть и одинокого, и пусть объявление на двери здесь висит о допуске родных по часам, или — еще хуже — о карантине и недопуске. Но здесь же ты видишь, что с ним рядом есть та самая Наталья Александровна, есть чашка воды на тумбочке, и думаешь: «Слава Богу. Как хорошо…»
Вот такая тут новая НОРМА.
Фейсбук Нюты Федермессер

— Тебе показывают потемкинские деревни?
— Конечно. Но мне довольно трудно показать потемкинскую деревню, потому что, когда ты знаешь свое дело, ты из потемкинской деревни обязательно выколупаешь обычную.
— «Регион заботы» касается только паллиативной помощи?
— Только паллиативной помощи. Когда я спрашивала, зачем мне ОНФ, что я смогу сделать, мне сказали, что смогу реализовать проект, который мне нужен. А мне нужно, чтобы в регионах была паллиативная помощь. И мне в ОНФ сказали: «Ну, опишите». И я написала, чего я хочу. Были отобраны 25 пилотных субъектов. И собрана экспертная команда, в которую входят аналитики, программисты, финансисты, медики, организаторы здравоохранения. Проект мы делаем совместно с Ассоциацией профессиональных участников хосписной помощи. Сейчас даже с Минздравом стали работать.
Мы едем в регион, встречаемся с губернатором. Если бы не ОНФ, губернатор бы с нами не встречался.
У него есть поручение, данное президентом на Госсовете. Там написано, что к сентябрю он должен представить программу развития паллиативной помощи в своем субъекте. Специалистов в субъектах мало, и что такое программа развития паллиативной помощи, они не понимают. От Минздрава был спущен очень малый объем данных — буквально количество коек, которые надо открыть. А мы ездим по стране, я им всем говорю: «Койки открыты, более того, они даже заняты, но паллиативная помощь не оказывается. Там лежат не те люди».
— Что значит «не те люди»? Те, которые не нуждаются?
— Абсолютно.
— Они что, блатные?
— Нет, одинокие, социальные сироты. Они вообще должны быть в соцучреждениях. И это тоже делается не потому, что сволочи и помогать не хотят. Потому что не понимают. Специалистов нет, дифференцировать одних от других они не умеют.
— Как они программу напишут?
— Программу мы пишем вместе. Наша большая команда экспертов, приезжает в регион, встречается с руководителем. Мы ему говорим, что нам нужно для того, чтобы написать успешную программу. Эту программу он потом будет представлять. Там будет стоять его подпись, но мы как эксперты ему поможем. Дальше он дает поручения, мы встречаемся с рабочей группой, говорим, что все равно им это нужно будет писать, и, чтобы им помочь, нам нужны цифры. И еще нам очень хотелось бы, чтобы он и другие люди из этого региона с нами поездили по учреждениям и посмотрели бы, что к чему и что нужно исправлять, и мы им показываем ошибки, не сливая все дерьмо в соцсети. Когда я пишу в фейсбук, я стараюсь писать максимально обезличенно. Но там, где есть что-то хорошее, я называю фамилии.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
— Эта программа для всей страны?
— Для начала мы отобрали двадцать пять регионов, о чем я уже страшно жалею. Это слишком много, невозможно к сентябрю качественно написать программы для каждого. Мы сделаем, но это будет не то качество, к которому я привыкла. Я абсолютно осознанно предлагаю: отправьте меня куда угодно, в любой регион, на 3–4 года, и я выстрою там систему здравоохранения. Но вот на такой скорости это очень трудно. Главное, что происходит: мы тащим представителей системы здравоохранения в учреждения соцзащиты, психоневрологические интернаты, в дома ветеранов, в дома для детей с пороками развития, с умственной отсталостью. И оказывается, что они там никогда не бывали. А представителей соцзащиты мы тащим в учреждения здравоохранения, сестринского ухода, в паллиативные.
Я им говорю: «Вы видите, как все перепутано: в ДДИ (детский дом-интернат. — «Новая») находятся дети, нуждающиеся в паллиативной помощи, а на койках паллиативной помощи находятся дети, нуждающиеся в активной реабилитации, на койках сестринского ухода находятся социальные сироты. В ПНИ (психоневрологический диспансер. — «Новая») и в домах ветеранов, на койках милосердия находятся пациенты, нуждающиеся в сестринском уходе или паллиативной помощи. А на койках паллиативной помощи находятся те, кто нуждается в сестринском уходе, на онкологических, терапевтических койках находятся те, кто нуждается в паллиативной помощи. А те, кто нуждается в медицинской помощи, находятся на улице и пишут письма Путину, и жалуются, что их не лечат».
12 марта
Я уже двое суток еду к северу Центральной России. По сторонам через забрызганные встречными фурами окна — бесконечные серые просторы, укрытые сырым грязноватым небелым снегом, или серые леса с какими-то болезненно тонкими ветками и кривыми стволами, как стариковские артритные пальцы. Где-то вдруг вылезает труба заброшенного заводика, а где-то торчит кверху колоколенка, вроде свежевыкрашенная, беленькая, а ближе подъезжаешь — обманка, выкрашен верх, чтобы с дороги видно, но в окнах нет стекол, а на ржавых воротах ржавый замок, от которого и ключ-то утерян, неизвестно кем и когда.
Еду мимо указателей с такими незапоминающимися названиями, что находиться я в общем-то могу где угодно, в любой из многих и многих похожих одна на другую российских губерний: Тараканово, Рылово, Наумовское, Петровское, Шульгино…
Еду в психоневрологический интернат в Новинках, в дом престарелых в селе Коровино, в больницу сестринского ухода в Ельнево… И везде меня встречает забор. За забором унылые серые постройки, похожие скорее на старые армейские казармы. А за этими грязными серыми внешними стенами казарм — среди шмотками облупившихся странно голубых, как кладбищенские ограды, или зеленых, цвета московских бордюров, стен — лежат в одинаково застиранных полосатых пижамах или в выцветших байковых халатах — коротко стриженные старики и старухи. Лежат даже те, кто может ходить, потому что ходить им некуда, ну и, а зачем… А коротко острижены даже женщины, хотя спроси их — и многие бы предпочли всегдашние свои химические завивки и рыжую хну.
Лежат они на низких металлических койках с продавленными пружинами, на матрасах, пропитанных мочой предыдущих лежальцев, под розово-серыми одеяльцами, выглядывающими из драных пододеяльников. Эта серо-розовая клетка уже сама по себе вызывает тоску и ощущение безысходности, и она всюду: стариковские одеяла в домах престарелых, одеяла у детдомовцев, больничные одеяла, одеяла в детских садах и школах-интернатах. А что? Удобно же. И немарко.
На тумбочках стоят металлические миски с железными ложками. А напротив тумбочки — ведро. Параша. Ага, прямо около тумбочки, которая все еще почему-то остается островком личного пространства: тут и расческа своя с поломанным зубцом, и блокнот с ручкой, где корявым полуслепым уже почерком выведено нетвердое «купи с пенсии моей сахару кускового», и тут же замызганная какая-то книжечка с кроссвордами.
Тапочек рядом с кроватями нет. Зачем? Куды им ходить-то? Гулять только летом, поэтому верхней одежды тоже нет. Кресел инвалидных нет, потому что нет денег и потому что все равно пороги и ступеньки делают 50-метровое расстояние до белого снега или зеленой травы непреодолимым.
Лежат они по 5–8 человек в палатах. Кто-то несколько недель, потом переводят его в другую какую-то больницу, в такую же на самом-то деле палату, с таким же 20 лет небеленым потолком, а кто-то лежит несколько лет и несколько еще пролежит…
В связи с приездом нашей «проверки» по всему «дому» появляется возле раковин мыло и полотенца, а в сестринской аккуратно расставляются мыльницы, зубная паста и щетки. Все индивидуальные, то есть каждая подписана отдельным чьим-то именем: Федоров Иван Степанович. Правда, имена на мыльницах почему-то не совпадают с именами пациентов в палатах. И все мыльницы чистые, мыла не смыленные, зубные щетки — девственные. Никто ими ни разу пользовался, а зачем? Да и по зубам это тоже видно… точнее, по их отсутствию…
Я заезжаю в эти «дома» и вижу никому не нужных старух и стариков, многие эти старики вовсе и не стары, а так, лет 60… Но с виду совсем уже дряхлые. Взгляд потухший. Я боюсь думать эту мысль всерьез, но ведь они — это мы, понимаете?
Я хожу среди немытых, дурно пахнущих нашей бесстыдной ленью и бессердечием людей. Я присаживаюсь на скомканное серое белье, постеленное поверх рыжих унизительных роддомовских клеенок, глажу волосы, жму руки, обнимаю тощие немытые плечи… Я не хочу быть причастна к такой их смерти и старости. Я очень хочу это изменить. Но я не могу ни слова упрека сказать сестричкам, которые за копеечную зарплату целыми днями носятся со ссаными памперсами и недоеденными склизкими кашами. По два человека — медсестра и санитарка — на 50 забывших тепло и ласку стариков.

Я хожу от койки к койке в «Отделениях МИЛОСЕРДИЯ» и вижу, что нет там ни одного cердца, которому были бы эти старики милыми…
— После того, как ты указываешь им на всю эту чудовищную путаницу, что-то меняется?
— Должно меняться.
— А как ты это проверишь?
— Я очень надеюсь, что этот проект будет жить не год, а три. Я просто сейчас в прямом смысле слова молюсь, чтобы это продолжилось.
— Мне всегда было интересно понять, как ты, учитель английского в школе, вдруг стала заниматься фондом «Вера». Вы с мамой придумали этот фонд?
— Нет, придумал фонд Анатолий Чубайс. Когда мама заболела, ей в России поставили неправильный диагноз. Сказали, что у нее рак легких с метастазами в кости.
— Какой год?
— 2005-й или 2004-й. Я тогда работала с «Золотой маской», и мы в этот момент готовились к синхрону какого-то спектакля с Татьяной Константиновной Осколковой, сидели с ней в кафе с текстом.
Позвонила мама, сказала: «Нюта, приезжай, у меня рак, запущенная стадия. Осталась пара месяцев, не больше».
Я приехала домой, мама позвала Машу (старшая сестра. — «Новая»), Марию Давыдовну Чубайс — своего главного хосписного соратника тогда. И папу, естественно. Мы сидели на кухне за столом, и не было: «Ой, Вера, как же быть?» Мы перебирали всех людей, обсуждали, кому передавать дела. И Мария Давыдовна сказала: «Может быть, все-таки попробуем хотя бы диагностику сделать». Чубайс ее уговорил поехать в Германию дообследоваться и, может быть, полечиться. Он сказал: «О хосписе вы не волнуйтесь, мы сделаем благотворительный фонд, он будет хоспис поддерживать. Фонд возглавит Нюта». Какая Нюта, какой фонд? И мы из Германии вернулись с другим тяжелым диагнозом — нейросаркоидоз, поражение мозжечка, но маме сказали, что если лечиться, то годы жизни есть. И она все эти годы продолжала тяжело болеть. А Анатолий Борисович тогда сказал: «Нельзя работать так, чтобы со смертью лидера все закончилось. Сколько лет осталось, столько вы должны потратить на то, чтобы это работало и после Веры Васильевны. И фонд все равно будет». Тогда благотворительность только зарождалась. Мне казалось, что если Чубайс это придумал, то я стану номинальным директором, а он будет давать деньги. Но он очень четко расставил все на свои места. Когда мы зарегистрировали фонд, он сказал:
«Эта организация должна быть самостоятельной, а ко мне можно обращаться в трех случаях: если есть какая-то проблема, связанная с налоговой, если есть бандитский наезд или если совсем край».
— Сколько тебе было тогда лет?
— 25. Я преподавала в школе, работала в «Золотой маске» как синхронный переводчик. Это был совершенно потрясающий проект, который родился через Театр.doc и Лену Гремину, и Британский совет, и Катю Гениеву. Проект Class Act, мы работали с трудными детьми из воюющих кавказских республик. У нас были дети из Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии. Мы их собирали в подмосковной усадьбе Суханово. И замечательные драматурги Дурненковы с ними занимались, а я там была переводчиком.

— И еще хоспис.
— Да. Последние шесть лет маминой жизни я от нее не отходила. Я жила с диктофоном, записывала все, что она говорит. Обдумывала, переписывала, сидела на конференциях. Потом подходила к ней и спрашивала: «Вот это, почему так?» Я не могла показать, что я чего-то не знаю. Мама меня никогда не хвалила, может, всего три раза в жизни. И я очень хорошо помню один из таких разговоров: я подошла к маме с кучей вопросов. Она, как всегда, сидела, курила и сказала мне: «А ты правильные вопросы задаешь, похоже, ты понимаешь, в чем дело».
— Зачем ты все за ней записывала? Ты понимала, что хосписное движение станет твоей жизнью?
— Нет. Я совсем недавно еще считала, что совсем чуть-чуть, и я вернусь в преподавание.
— Кто придумал слоган «Жизнь на всю оставшуюся жизнь»?
— У нас сначала был совсем другой слоган: «Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь». Его придумала замечательная Оля Агеева, с ней мама еще успела познакомиться. Нам нужно было для фонда придумать риторику. Оля ходила, спрашивала, смотрела, читала. И вдруг она эту фразу произнесла. Начало из одной хосписной заповеди, конец из другой. Оля взяла их и «поженила». И много лет это было абсолютно правильно, потому что мало кто тогда что-то понимал про хоспис, мало кто понимал, что если человека нельзя вылечить, то это совсем не значит, что ему нельзя помочь. Но со временем, когда мамы не стало, фонд разросся, появились другие масштабы, и к тому же я не врач, я не могу идти вглубь, я не могу жить в палатах, не могу быть так полезна для каждого пациента, как была мама. Но мне же куда-то надо двигаться. И я решила, что я буду двигаться вширь, чего мама не делала.
Мне надо, чтобы все остальные московские хосписы стали такими же, чтобы паллиативная помощь детям развивалась, чтобы даже в Подмосковье, куда рукой подать, не было такой «жопы» с хосписами. Только подумай, что происходит: открывается отделение, койки, туда кладут больного и забывают о нем. Не знают, что дальше делать, в чем помощь должна состоять. В чем отличие Первого московского хосписа, основанного Верой Миллионщиковой, с этой философией, от всего остального? Почему здесь, в этом хосписе, так? Люди едут сюда умирать, а на самом деле живут? А в других местах иначе. Но это можно и нужно изменить.

— И тогда появился другой слоган: «Жизнь на всю оставшуюся жизнь»?
— Меня познакомили с Сашей Семиным, который до этого очень много занимался благотворительностью. У него ребенок с синдромом Дауна. У него свое креативное агентство, и первое, что он сказал, что нам не надо менять фирменный стиль, надо менять смыслы, надо уходить от смерти к жизни. Он сначала предложил одну концепцию про достоинство, потом вторую и, наконец, третью: «Жизнь на всю оставшуюся жизнь». Это было непросто: он изучил запросы в «Яндексе», смотрел, как люди реагируют, что они ищут, какие слова у них ассоциируются со словом «хоспис». И он сказал, что через три года мы должны уйти от сочетания «хоспис–смерть» к сочетанию «хоспис–жизнь». Это был переломный момент.
Прежний слоган работал против нас, у людей возникало ощущение разрастающейся безнадеги. И страх стал уходить не с разрастанием нашей мощи, а с изменением слогана. И я Саше теперь все время говорю: «Ты понимаешь, что ты сделал в этом движении? Мы могли бы работать еще тысячу лет, но этого перелома бы не произошло, не измени мы слово».
— Постепенное «разрастание вашей мощи» привело к тому, что государство заметило, что есть в гражданском обществе сильное движение, и сделало себе из хосписов почти национальную идею.
— Если это так, я счастлива. Потому что я все время боюсь, что наступит момент, когда они «наиграются», когда они возьмут себе какую-то другую идею, но если это национальная идея, то это гениальная национальная идея. Мне не хочется громких слов, но я стала верить, что именно отношение к умирающему может многое изменить. Вообще все в жизни меняется после смерти близкого человека. Оставшиеся начинают жить по-другому. Говорят, жизнь делится на время до рождения ребенка и после, но это про быт. А жизнь до и после смерти близкого человека — это про душу.
— Я считаю, что государство, взяв хосписное движение в качестве национальной идеи, эту тему как бы приватизировало. Ведь государству гораздо проще заниматься хосписами, чем здравоохранением или заключенными.
— Можно я честно на это отреагирую?
— С одной стороны, это очень красиво: забота о людях, о пожилых, о страдающих. А с другой стороны, эти люди не будут протестовать, они не будут критиковать власть. Они будут благодарны тем, кто им даст уйти счастливыми и без страданий.
— Нет. Во многом ты совсем не права. Здесь есть несколько моментов. Ты говоришь, что люди не будут возражать и критиковать. Но степень свободы человека в хосписе не ограничена ничем. Это самые свободные люди, самые критикующие.
— Они не выйдут на митинг.
— Ну и что? Их влияние на тех, кто остается, безмерно. Потому что ложь требует сил, которых уже нет. Пообщайся с ними в палатах, послушай их, как они лечились. Через что прошли, через какие унижения, сколько денег потрачено на взятки…
Люди на смертном одре и мамы неизлечимо больных детей ничего не боятся. У них все самое страшное уже случилось.

Эта аудитория очень благодарна любому, кто протягивает руку помощи. Но на первом этапе нужно заслужить их доверие — люди к нам попадают обиженные, обозленные, разутые в финансовом смысле и утратившие доверие. Оказавшись в хосписе, они осматриваются и считают, что у них там запросят квартиру, пенсию.
Что касается того, приватизировало ли государство эту идею. Наверное, если бы я так не ломилась с этой темой везде, они бы не горели желанием это приватизировать. И я не считаю, что они ее могут приватизировать. Качественная паллиативная помощь не может быть исключительно частью государственной системы, тем более государственного здравоохранения. Здесь как нигде много (значительно больше, чем в родах!) индивидуального подхода, который нужен уходящему человеку. Его не сможет обеспечить государственная система ни в одной стране мира. Даже в небольшой стране, где паллиативная помощь одна из лучших — в Польше или в Великобритании, — там все равно без волонтерства, без благотворительности, без гражданского общества невозможно ничего сделать. Когда ты строишь помощь системно, у тебя должны быть четкие рамки, у тебя должно быть понимание, где начало, где конец, что в хосписе, что не в хосписе, сколько стоит, минимальные затраты, максимальные затраты, койко-дни. Никуда от этого не денешься. А у тебя происходят чудеса. С каждым человеком все по-разному. Вот этот, вроде вообще не поймешь, в чем жизнь держится, а он говорит: «Не могу сейчас позволить себе умереть. У меня дочь беременная. Вот родит, тогда умру». Как ты на него наденешь эту матрицу? У нас 21 день госпитализация, уже 23-й день пошел, сколько можно? Не получится приватизировать это. Если приватизировать, то будет говно.

— Хорошо, попробую объяснить по-другому. Наше государство ругают, что оно бездушное, что в полиции, в СИЗО и в колониях пытают заключенных, что пенсионный возраст повысили, медицина плохая. А вот теперь можно сказать: «Смотрите, у нас такое потрясающее хосписное движение».
— Любое государство бездушно, у государства не может быть в приоритете интерес конкретного человека. Государство не может быть человечным. А люди человечны абсолютно все. И есть абсолютно метафизический страх перед всем, что связано с немощью, старостью, болезнью, смертью, которые очень человека меняют. Если ты столкнулся лицом к лицу со страданием и болью, то ты, даже пусть очень ненадолго, но ты не можешь остаться равнодушным. Если паллиативная помощь кого-то облагородит, это замечательно, но знаешь, сколько я угробила сил, чтобы донести правильные слова до госчиновников разного уровня?
Сколько потрачено сил на то, чтобы доказать, что полтора миллиона человек, которые умирают каждый год, нуждаются в паллиативной помощи? После их смерти остаются 18 миллионов — это потенциальные избиратели: родственники, друзья, близкие люди, коллеги по работе, соседи.
Все те, кто травмирован тем, что это могучее государство, которое воюет в Сирии, которое не без оснований считает себя вправе влиять на мировую политику, влиять на повороты истории, это государство не может обезболить тяжелобольного. Что это такое? И вот мы сделали презентацию, видеоролик, где показали, что на самом деле в паллиативной помощи нуждаются более 18 миллионов человек в год. До сегодняшнего дня никто не считал этих людей аудиторией паллиатива.
Накануне каких-то выборов я тоже сделала презентацию и объяснила: четыре года электорального цикла, 18 миллионов умножьте на четыре, и уже получится 70 миллионов человек. Эти 70 миллионов человек, которые тебе как министру здравоохранения; тебе как губернатору твоего субъекта; тебе как вице-премьеру, премьеру или президенту будут признательны. А у нас такой менталитет, такая наша «скрепа» в России, что помощь в горе не забывается. У нас люди помнят, кто им протянул руку помощи, когда им было плохо. Можно сколь угодно говорить мне, что я спекулировала. Да, я много спекулировала, но я очень рада, что это сработало.
— Но я все равно как циничный журналист замечу, что у абсолютно немилосердной власти по отношению к пациентам хосписа вдруг проявилось удивительное милосердие не потому, что власть вдруг прозрела, а потому, что она в этом милосердии каким-то образом заинтересована.
— Знаешь, я сейчас иногда слышу в свой адрес — вот Федермессер со своими хосписами и фондом «Вера» весь эфир заняла. А мы больше десяти лет были в сфере, которая называлась непопулярной благотворительностью. Нельзя было выйти на телевидение и произнести слово «хоспис» или «рак».
— Я восемь лет посещала московские тюрьмы, и, что бы мы ни делали, мы бы никогда не смогли добиться таких успехов, как вы. Одно дело умирающие, больные люди, а другое дело — заключенные.
— Во-первых, тюремную тему поднимать как флаг странно, потому что как минимум хотелось бы, чтобы в нормальной стране эта тема занимала меньше места в силу хотя бы меньшего количества заключенных. Читаешь телеграм и на генетическом уровне начинаешь чувствовать, что такое 37-й год.
Но я очень хорошо помню свою ревность, зависть и при этом невероятное стремление научиться у фонда «Подари жизнь». Казалось, что у нас в стране раком болеют только дети.
Больше же вообще ничего не происходит. Надо просто понимать, что тот «хайп» сошел, и этот сойдет. Но пусть он сойдет тогда, когда мы систематизируем хосписную помощь.
— Тюрьма — очень болезненная область в нашей стране, которая соприкасается с паллиативом. В тюрьме тяжелобольные не получают обезболивания. Их освобождают домой, когда им остается всего несколько недель или дней до конца. В середине апреля в Москве произошло событие, которое, быть может, сдвинет эту проблему с мертвой точки: из больницы «Матросская Тишина» в Первый московский хоспис была переведена онкологическая больная Екатерина Гаврилова (умерла 16 мая, прожив в хосписе чуть меньше месяца — Ред.). Это произошло после того, как ты прочитала в ФБ пост зампреда ОНК Москвы Евы Меркачевой, которая писала, что эта женщина не получает обезболивания в СИЗО, и ей очень плохо. Значит ли это, что положено начало тюремным хосписам и это новый вызов для тебя? Есть два постановления правительства, согласно которым можно освобождать тяжелобольных из-под стражи, — №3 и №54 (уже для осужденных). Но эти постановления несовершенны, нужно менять перечень болезней.
Вот, например, Сергей Магнитский никогда бы не был освобожден из-под стражи по болезни, потому что его болезнь не входит в этот список. Хотя именно его смерть повлияла на то, что появилось третье постановление правительства о медицинском освидетельствовании подследственных.
— Я не могу заниматься тем, про что я ничего не знаю. Я понимаю, что если человеку объективно показана паллиативная помощь, то держать его в тюрьме бессмысленно. Он уже наказан. Когда Катя приехала из тюрьмы в хоспис, она сказала, что оказалась в раю. Вот уж счастье, каждому бы такое. В первый момент, когда с нее сняли наручники и окончательно освободили, казалось, что, если бы ей дать летательный аппарат, она улетела бы из хосписа. Но она еле дошла до другой комнаты покурить. И она была счастлива, что больше не было четырех человек конвоя с ней в палате. Это не счастье — освободиться из тюрьмы в хоспис. Это кошмар.
Я думаю, что каждый должен выполнять свою работу. Тюрьма должна держать заключенных.
Тюрьма не должна заниматься оказанием медицинской помощи. Заболел — выпишите его из тюрьмы, подлечите, а потом верните обратно. В чем проблема-то? Тюрьма про тюрьму.
Медицина там не может быть качественной, если она подчиняется ФСИН. Врачи фсиновские боятся, что их обвинят, что они какие-то бумажки не те пишут и деньги берут за освобождение. Пусть тогда давать заключение о паллиативном состоянии человека будут гражданские врачи и все время разные. Об этом я готова говорить и договариваться.
— Правозащитники много лет говорят о том, что медицинское освидетельствование должны проводить независимые от тюрьмы врачи.
— Я готова этим заниматься только в тех случаях, когда речь идет о том, нуждается человек в паллиативной помощи или нет. Возможно, есть обязательство освобождать и просто тяжелобольных, но не паллиативных. Но я этого не знаю.
— Но ты можешь инициировать изменение перечня заболеваний, при которых следует освобождать заключенных из-под стражи.
— Нельзя инициировать то, за что ты не будешь нести ответственность. Я не буду делать то, что я не смогу продолжить.
— Часто под твоими постами можно прочитать: «Нюта, вы святая, спасибо, что вы есть» — и много всяких других восторженных слов. Нет ли у тебя мании величия?
— Я не зазнаюсь, и мании величия у меня нет. Но одновременно я понимаю, что я очень сильно изменилась за последние годы. Хотя, честно говоря, я не думаю, что то, как я изменилась, хотя бы на полпроцента связано с подобными высказываниями под постами. В первую очередь потому, что я их не успеваю читать. Сейчас у меня есть чудесная девушка в команде, которая все читает и на все отвечает.
— Нюта, а вот сбудется твоя мечта и по всей стране будут созданы идеальные хосписы, чем ты тогда займешься?
— Знаешь, когда-то мы с мамой вербализировали, в чем разница между ней и Лизой Глинка: если бы однажды Лиза Глинка проснулась и увидела, что за ночь случилось невероятное, что в мире нет больше войн, страданий и умирающих, абсолютное благоденствие, она бы, наверное, из окна выпрыгнула. Потому что непонятно, зачем тогда жить. А если бы то же самое произошло с мамой, то она бы надела лучшее платье и пошла в кафе, выпила, покурила и жила бы до скончания веков счастливая, шлялась бы по выставкам, встречалась с друзьями. А я? Трудно сказать, что будет, «если»…

Вообще, научившись себя оценивать, я понимаю, что не могу заниматься мелкими процессами, мне становится скучно. Я проблему вижу всегда сверху и вижу все, что к ней цепляется так или иначе.
Я начинаю цеплять каждый год какие-то вещи, о которых я в прошлом году и не думала: перинатальная паллиативная помощь (то есть помощь родителям детей, которые знают, что у них родится смертельно больной ребенок), помощь паллиативным заключенным, помощь людям, нуждающимся в паллиативной помощи внутри учреждений соцзащиты.
Дальше я вижу, что все это замечательно, но люди не понимают, как отделить тех, кто нуждается в сестринской помощи, от тех, кто нуждается в реабилитации, и от тех, кто нуждается в паллиативной помощи. Это еще одно огромное поле, и оно растет, и я иногда жутко себя ругаю: что ж ты за дурра-то такая поверхностная, ничего не решила, вот здесь ничего не сделала, никакого результата не достигла, то же самое обезболивание — еще не до конца все обезболены, а ты вот уже дальше пошла, в тюрьму… Но знаю, что в фонде «Вера» есть команда, которая уже три года как справляется без меня. В детском хосписе «Дом с маяком» и в Центре паллиативной помощи за моей спиной люди, которым я доверяю, это потрясающая команда.
И я не знаю, что будет, если все это прекрасно заработает без меня. Но вообще у меня есть мечты, совсем не связанные с общественной деятельностью. Я очень люблю преподавать и с радостью бы это делала.
— Преподавать английский или хосписную философию?
— Мне кажется, сейчас это не очень принципиально. Я любила преподавать английский, потому что ничего другого не умела, а сейчас я могу преподавать что-то другое. Я могу говорить и про организацию здравоохранения, и про организацию благотворительной деятельности, про то, что такое фонды и как с ними работать. Я люблю преподавать, и я знаю, что у меня это получается. Еще я уже много лет мечтаю (и было бы время, я, может быть, уже это и делала) вести передачу на радио.
— И книгу писать?
— Книгу хочу написать. Надеюсь, что мы вплотную подошли к написанию книги про такие важные вещи, на первый взгляд мелочи, которые никогда не попадают в книги, но при этом формируют качественную паллиативную помощь. А еще уже много лет у меня в голове есть театральная пьеса, она еще не написана на бумаге, но у меня там уже придуманы все персонажи, я все про них знаю.
— Пьеса про хоспис?
— Нет, это пьеса, которая называется «Родительское собрание». Мне очень нравятся пьесы, действие которых происходит в одной локации. Вот когда всё: конфликт, кульминация, мир рушится, и всё это внутри телефонной будки. Действие моей пьесы происходит во время родительского собрания. Его участники — родители, часть которых сами раньше учились в одном классе, и теперь их дети учатся вместе. И классная руководительница этих детей — это их бывшая классная. И курить они теперь сбегают в туалет сразу и от детей, и от классной, и от закона о запрете курения.
— И ты уже придумала, что пьесу поставит Кирилл Серебренников?
— Вряд ли. Хотя пьеса «Пластилин» (первая пьеса Кирилла Серебренникова, которую я видела) на мое понимание драматургии очень сильно повлияла.

В общем, я точно знаю, что без дела не останусь. Мне еще село Поречье надо восстановить.
— Мне нравится конец нашего интервью.
— Не всё про хоспис…
Реквизиты для перевода через банк
Получатель:Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера»
Банк получателя:ПАО Сбербанк, г. Москва
Расчетный счет 40703810438180133973 (рубли РФ)
ИНН 7724296034, КПП 770401001.
БИК 044525225
Корсчет30101810400000000225
ОГРН1067799030826
Можно перевести средства онлайн на сайте фонда hospicefund.ru. Если вы подпишетесь на ежемесячные пожертвования, фонд будет регулярно присылать новости о помощи пациентам.
Если вы хотите стать волонтером хосписа — запишитесь на ознакомительную встречу на сайте фонда «Вера».Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68