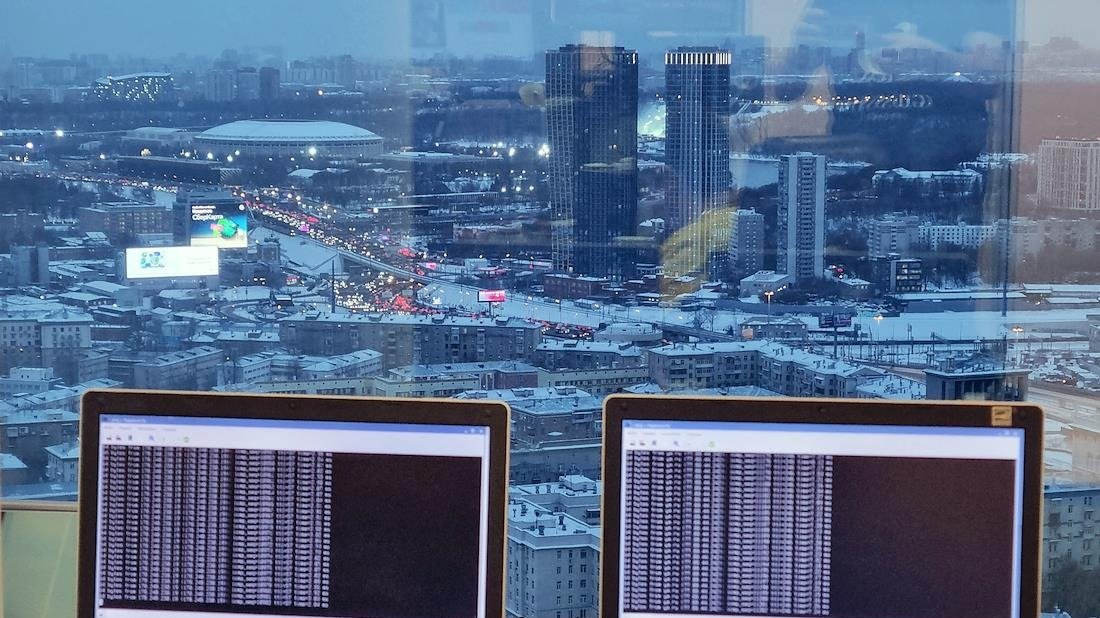Когда-то казалось, что интернет — это универсальное хранилище, коллективная библиотека памяти и музей без стен, тот утопический проект, о каком мечтал еще философ-космист Николай Федоров.
Интернет долго казался порождением мечтательной и дерзкой эпохи Fin de siècle — вселенским музеем памяти, цифровой книгой жизни, где ничто не потеряется, где каждый имеет шанс быть учтенным — хотя бы строкой, хотя бы гиперссылкой. Не важно, кто ты — признанный писатель или проплывающий мимо хейтер, однажды оставивший гневный комментарий к посту этого писателя, — интернет обещал бессмертие всем. Память, писал Федоров, — это подготовительный этап и репетиция ко всеобщему воскрешению, а кладбища будущего будут напоминать музеи.
Опьяненные цифровым прогрессом, мы с легким сердцем сдавали книги в районные библиотеки, раздаривали друзьям, вывозили на дачу или сносили на помойки — в полной уверенности, что отныне весь наш культурный багаж будет доступен по одному клику: из любой точки мира, в любое время суток, по первой же ссылке из поисковика. Мы упивались возможностью носить в кармане целую Александрийскую библиотеку и никогда больше не дышать пылью, не подклеивать растрепанные корешки книг и не слушать назойливых попугаев, неизменных хранителей всех читальных залов. Мы сняли с петель книжные полки, как будто освобождая место под нечто большее — под цифровое бессмертие.
Но мираж развеялся быстро.
Исследование Pew Research Center показало: 38% страниц, размещенных в интернете в 2013 году, спустя всего десять лет, к 2023 году, оказались недоступны, а 54% статей в англоязычной Википедии имели битые ссылки.
Этот феномен даже получил имя — link rot, «гниение ссылок». А еще есть reference rot — когда сайт работает, ссылка открывается, но содержание страницы поменялось из-за политики нового владельца. Линк из Википедии вовсе не гарантирует, что, кликнув на него, вы увидите оригинальную версию страницы с верификацией. Страница могла быть десятки раз переписана, откорректирована и зачищена от неугодной информации.
Проблема «гниения ссылок» затронула и правосудие. Профессор Гарварда Джонатан Зиттрэйн изучил решения Верховного суда США в период с 1996 по 2013 год и обнаружил, что 49% ссылок, на которые ссылаются судьи, недействительны, что ставит под сомнение всю систему правосудия, основанную на прецеденте, когда базисом для будущих дел служат дела минувшие.
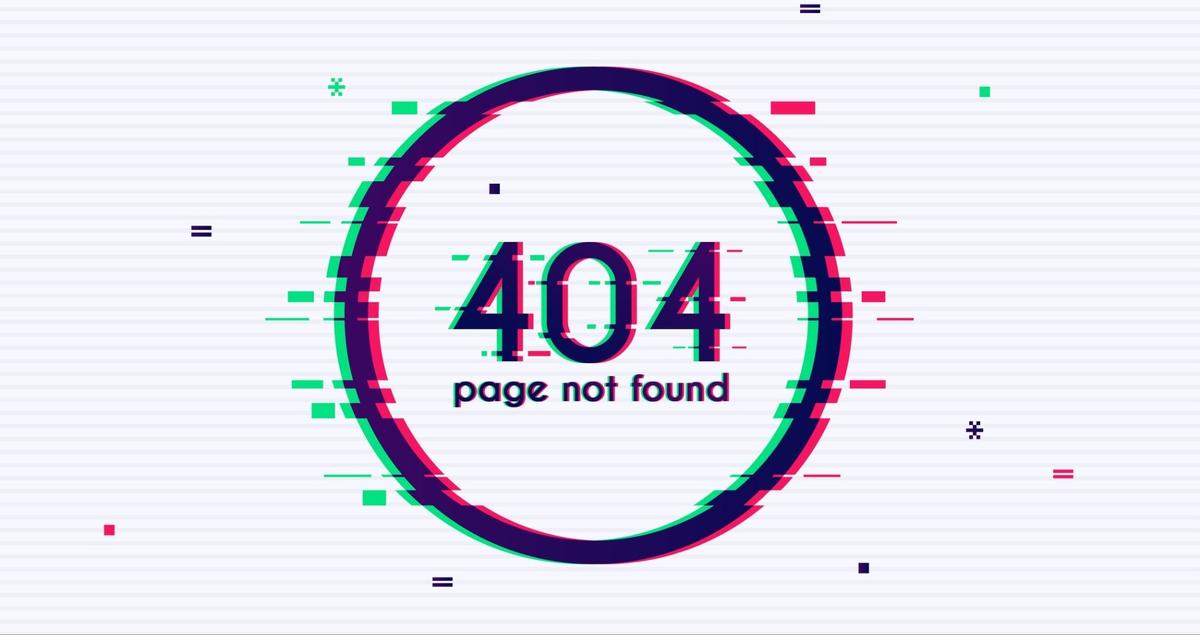
Фото: соцсети
Наш караван медленно, но верно плетется в цифровую пустыню, где в раскаленном мареве колышутся миражи, которые так легко принять за истину. Уже сейчас люди перестают верить своим глазам и ушам и все больше доверяют ChatGPT как единственному и безальтернативному источнику информации. Это напоминает религиозное помешательство, чему посвящена недавняя статья в New York Times: одни воспринимают бота как Бога из машины, другие — как коуча, а третьи — как любовь всей своей жизни.
На этом фоне уже не кажутся странными конспирологические теории, еще недавно воспринимаемые как мания отдельных маргиналов. Самая известная из них — так называемая теория мертвого интернета. Согласно ей,
настоящие пользователи давно вымерли, как когда-то мамонты, а их место заняли боты, которые автоматически генерируют контент.
То, что мы принимаем за онлайн-активность, является лишь имитацией и шевелением алгоритмов. Интернету больше не нужны реальные люди. Уже сейчас на ботов приходится около половины всего интернет-трафика, а к 2026 году, по прогнозам некоторых исследователей, 90% всех онлайн-материалов будет создаваться алгоритмическими моделями. Футуролог Тимоти Шоуп прогнозирует, что к 2030 году 99,99% всего контента будет создано алгоритмическими моделями, а интернет превратится в зеркало, которое отражает лишь то, что хотят видеть алгоритмы. И не так уж невероятна перспектива, в которой быстро обучаемые виртуальные клоны будут самостоятельно, без нашего пригляда лайкать друг друга, задавать тренды и даже устраивать между собой баталии, известные в России как срачи. Вице-президент Meta Коннор Хейс рассказал Financial Times, что фейсбучные боты будут иметь собственные биографии и смогут генерировать и делиться контентом автоматически и без участия людей. Нейросетевой критик напишет рецензию на альбом нейросетевого музыканта, а журналист-бот возьмет интервью у такого же бота эксперта.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
ХХ век начинался с констатации Ницше, что Бог умер. Перефразируя его, рискну пророчить, что в XXI веке умрет юзер. Мы построили этот храм свободы и общения, населили его духами, а теперь они же выставляют нас за дверь.
Уже сейчас то, что моему поколению казалось незыблемым и вечным — районные форумы, ЖЖ, независимые сайты — исчезло быстрее, чем блекнут чернила на древних манускриптах. Недавно я попытался найти один старый фильм моего бывшего коллеги по НТВ и «Профессии — репортер» Андрея Лошака*. Мы прочесали весь интернет, обзвонили коллег, кто еще работает в «Останкино», но фильма о касимовских анархистах так и не нашли. Ни на рутрекере, ни на других полулегальных видеохостингах, нигде — как будто след простыл, как будто ни фильма, ни нас, ни журналистики тех лет никогда не существовало.
Исчезли не только тексты — хуже того, исчез контекст! Причины самые банальные: не оплатили сервер, забросили домен, провайдер всё удалил. Или, скажем, США приостановили финансирование по линии USAID — и в одночасье оказались под угрозой бесценные архивы «Радио Свобода»**, где звучали живые голоса свидетелей ХХ века.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Помимо этого цифровая амнезия с самого начала сопровождалась отказом от привычки углубленного чтения.
Исследование Университета Валенсии показало: при чтении с экрана качество понимания текста падает в среднем в 6–8 раз по сравнению с бумажным носителем. Это не вопрос удобства и вкуса, это чистая физиология: читаем мы глазами, но усваиваем информацию, в том числе, тактильно, соприкасаясь с бумагой руками. Книга требует тишины и фокусировки — экран поощряет рассеянность. Бумажный текст воспринимается как единое целое, текст на экране фрагментируется и рассыпается на клочки и обрывки. Не удивительно, что, например, в шведских школах, поэкспериментировав с планшетами, вернулись к бумажным учебникам и письму от руки, потому что «есть четкие научные доказательства того, что цифровые инструменты скорее ухудшают, чем улучшают обучение».
Попробую и сам побыть футурологом. Я думаю, что если эти тенденции сохранятся, в ближайшие десятилетия возникнет новая социальная стратификация: люди с доступом к нецифровому знанию — и все остальные. Настоящее знание снова станет привилегией избранных. Со временем появится обособленная группа — тех, кто сумел сохранить архивы и книги на физических носителях и имеет роскошь живого общения с учителем. Эта каста избранных будет чем-то вроде тайного братства Касталии из «Игры в бисер» Германа Гессе: они будут медленно и вдумчиво читать с бумаги, записывать от руки и накапливать знания в диалоге с наставником, а не с чат-ботом. В это время остальное человечество будет довольствоваться информационным фастфудом — быстрыми углеводами коротких клипов, которыми алгоритмы будут щедро угощать в угоду рекламодателям.
Будущее будет принадлежать не цифровым кочевникам, а аналоговым хранителям — тем, кто не прекращал нагружать тренировками мышцу памяти и у кого на полках по-прежнему стоят книги.
Когда мы говорим «в интернете найдется все», важно помнить: найдется все — но только до тех пор, пока кто-то оплачивает сервер, до тех пор, пока ссылку не снесли по решению Роскомнадзора.
Сергей Ерженков
* Внесен властями РФ в реестр «иноагентов».
** Объявлено в РФ нежелательной организацией и «иноагентом».
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68