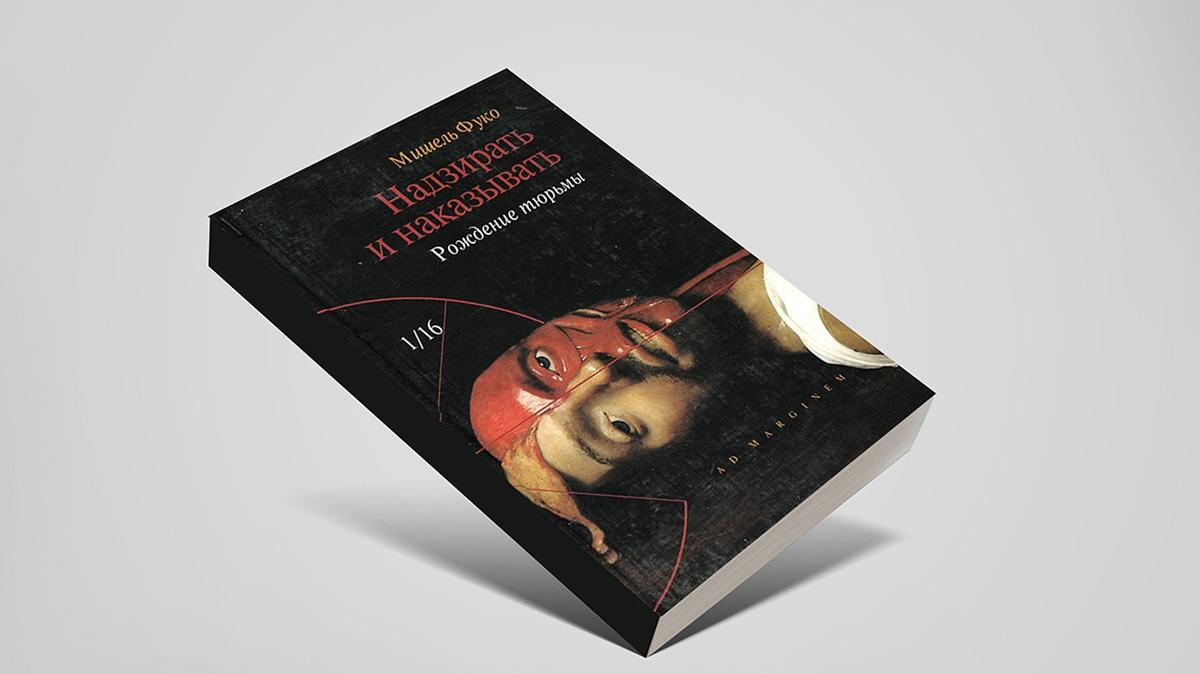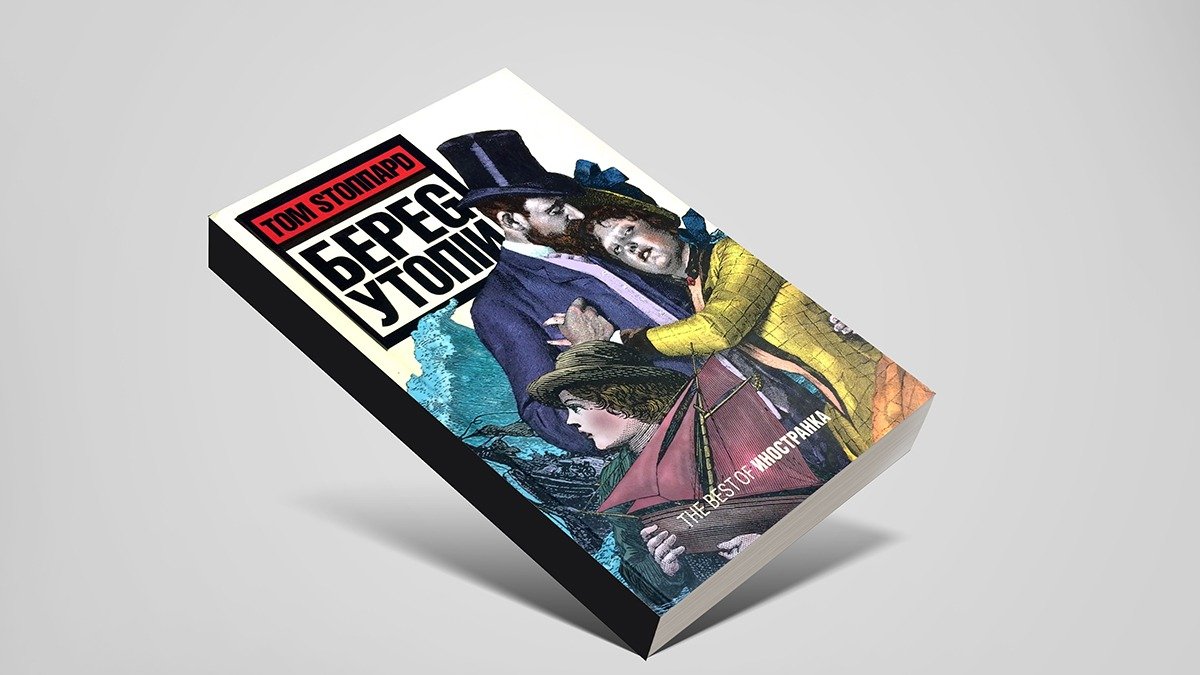Одна из последних громких новостей книжной цензуры в России — недавний визит прокуратуры в магазин «Фаланстер». Судя по подборке изъятых книг (Арендт, Сонтаг, Беньямин, Фуко), в магазины такого качества даже следователи ходят интеллигентные. Выбор книг в целом выглядит логичным и однородным: все эти авторы, как мы понимаем, писали антитоталитарные тексты.
Фуко, например, был изъят за то, что написал «Надзирать и наказывать» — книгу о рождении и эволюции тюрьмы. Что характерно, совсем недавно была переиздана другая работа Фуко — «История безумия», — экземпляры которой теперь огромной кипой лежат прямо у входа во «Фаланстер», но вкус прокуратуры оказался взыскательным: свежее безумие ее не заинтересовало, а заинтересовала старенькая эволюция наказаний за преступления. «Надзирать и наказывать» и правда выглядит очень актуально — хотя бы потому, что сейчас еще очевиднее, чем за все последнее время, стала необходимость реформировать тюрьму. Некоторые предложения относительно того, какой должна быть тюрьма в идеале, Фуко в своем тексте описывает. И раз уж наша власть услужливо напомнила нам об этой книге, попробуем ее сегодня перечитать.

Фото: соцсети
Но прежде чем думать о реформах, нужно сначала понять, что вообще собой представляет современная тюрьма, и это автор анализирует бо́льшую часть читательского времени.
«Надзирать и наказывать» — конечно, не роман, и все-таки сюжет там есть: Фуко начинает с описания публичных казней и рассказывает о том, как из этой карательной практики выросла современная пенитенциарная система. Речь идет далеко не о «смягчении нравов»: хотя никто никого давно публично не сжигает и не колесует на площадях,
нравы тюремщиков и судей от этого лучше не стали — просто насилие из открытого переродилось в насилие по умолчанию, и объект, на который это насилие направлено, изменился.
Если при карательной системе публичных казней власть стремилась наказать тело (и устрашить всех потенциальных преступников, для которых этот театр публичной смерти и предназначался), то с течением времени и суды, и тюрьма стали интересоваться душами. Тело они при этом в покое, конечно, не оставили — просто из цели оно превратилось в средство.
Здесь, наверное, имеет смысл сразу поставить дисклеймер: некоторые представления Фуко о том, что происходит с заключенными в тюрьме, кажутся если не слишком наивными, то слишком теоретичными. Он, например, уверен, что переключение внимания с тела подсудимого на его душу произошло после Реформации и начало «эпоху карательной сдержанности». И что в современных механизмах уголовного правосудия «след публичных «пыточных» казней не вполне изжит, но все более изглаживается «нетелесной» уголовно-исполнительной системой».
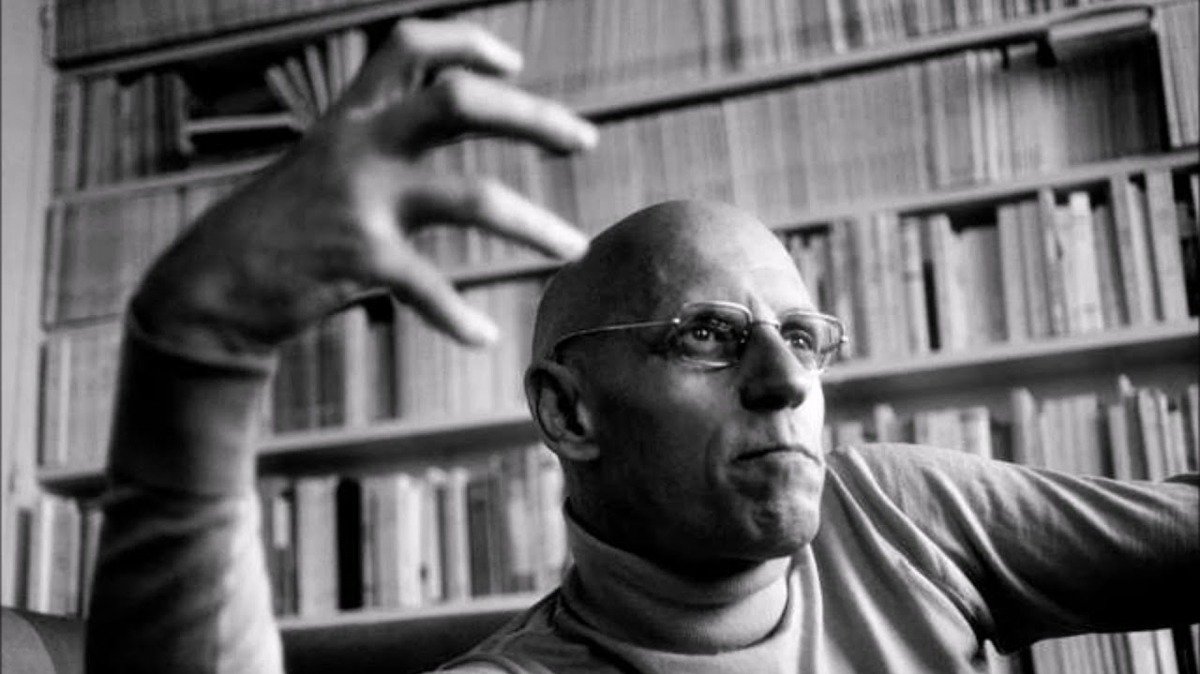
Мишель Фуко. Фото: портал Проза.ру
Может быть, во французских тюрьмах и имеет место какая-то карательная сдержанность, но российские, как мы знаем, похвастаться этим не могут. Тем не менее, Фуко — может быть, для чистоты теории — ставит четкие рамки: сейчас, говорит он, все тюремные практики стараются ненасильственно подчинить тело для того, чтобы повлиять на психику арестанта. Эта власть над телом проявляется в любых мелочах: начиная с того, что арестант обязан носить тюремную робу, и заканчивая, например, тем, что сидеть и лежать он может в строго определенное время. В этом смысле тюрьма очень похожа на армию, больницу и любой другой «дисциплинирующий» институт: Фуко приводит пример, когда один из указов по армии от 1766 года четко проговаривал, как должна быть развернута стопа марширующих солдат, какими должны быть направление, размах, длительность каждого движения и т.п. Документ устанавливал «анатомо-хронологическую схему поведения» — по определению Фуко, обеспечивал «проникновение времени в тело».
Такое проникновение почти всегда означает полный контроль. И именно поэтому (это я добавляю уже от себя) любое государственное учреждение строит свои отношения с теми, кто в нем находится, по двум осям координат: по времени и по положению тела.
Например, ученик любой государственной школы живет циклами по 45 минут и обязан носить школьную форму, сидеть за партой, сложив перед собой руки, и желательно не бегать по коридорам. Говоря короче, и в тюрьме, и в армии, и в школе государство тратит основную часть усилий на то, чтобы полностью контролировать физическое состояние человека. Иначе государство может потерять возможность и право его наказывать. Но эта созависимость времени и тела — не единственное, что роднит школу с тюрьмой и армией.
Их роднит и другое — система экзаменов. Экзамен, по Фуко, — это такая процедура, которая делает три вещи: выстраивает иерархию, утверждает норму и делает каждого отдельного человека видимым, т.е. индивидуализирует его (в случае с арестантами роль экзамена играет судебное заседание). Любой экзамен распределяет всех сдающих его по бинарным оппозициям: успешен / неуспешен (ученик), годен / негоден (солдат), виновен / невиновен (подсудимый). При этом каждый из них из конкретного человека превращается в конкретный «случай» — либо соответствующий норме, либо отклоняющийся от нее. Поэтому, по Фуко, «главная функция судебного наказания — указывать на свод законов и текстов, которые необходимо помнить, а не на совокупность наблюдаемых явлений; оно действует не посредством дифференциации индивидов, а путем спецификации поступков в соответствии с рядом общих категорий; не посредством установления иерархии, а куда проще — путем применения бинарного противопоставления дозволенного и запрещенного; не приводя к однородности, а вынося приговор и тем самым устанавливая непреложный раздел».
Говоря короче, в любых дисциплинарных системах, включая судебную, у человека может быть только два варианта характеристик: либо он нормален, либо он ненормален и подлежит наказанию (и все внимание власти и общества при этом будет приковано ко второму, а не к первому).
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
В этом смысле тоталитаризм, полностью построенный на системе таких вот экзаменов, глобально работает со своими гражданами точно так же: например, на экзамене под видом выборов у члена тоталитарного общества есть только два варианта голосования — «правильный» и «неправильный», и от этого выбора зависит, будет ли он считаться «нормальным» или подлежащим наказанию. Так что тоталитаризм — во многом глобальная тюрьма.
Как пишет Фуко, эта любовь к бесконечному делению надвое — на два полюса, две касты, категории, реестра, на условных «здоровых» и «больных» — привита власти еще со времен эпидемий чумы, когда все население города надо было взять, поделить и изолировать друг от друга: «Обращаться с «прокаженными» как с «чумными», переносить детальную сегментацию дисциплины на расплывчатое пространство заключения, применять к нему методы аналитического распределения, присущие власти; индивидуализировать исключенного, но при этом использовать процедуры индивидуализации для «клеймения» исключения, — вот что постоянно осуществлялось дисциплинарной властью с начала XIX века в психиатрической лечебнице, тюрьме, исправительном доме, заведении для несовершеннолетних, правонарушителей и, до некоторой степени, в больнице.
Вообще говоря, все эти учреждения для контроля над индивидом действовали в двойном режиме: бинарного разделения и клеймения (сумасшедший — не сумасшедший, опасный — безобидный, нормальный — ненормальный), а также принудительного и дифференцирующего распределения (кто он, где должен находиться, как его охарактеризовать, как узнать, как осуществить индивидуальный постоянный надзор за ним и т.д.)».
И до сих пор любая тюрьма — как, в общем, и любое тоталитарное общество — строится по тому же принципу жесткого разделения, изоляции одних от других.
Отсюда же происходят и бесконечные попытки сегодняшних депутатов сделать границу между теми, кого они считают врагами, и остальными максимально непроницаемой:
допустим, изолировать всех «иноагентов» от их аудитории, запретив им любую творческую деятельность или не давая возможности совершить даже самые простые финансовые операции наравне со всеми.
Но проблема в том, что вот уже на протяжении пары столетий устроенные по этим принципам тюрьмы остаются самым бесполезным заведением всех времен и народов. Заклейменные арестанты, измученные полным физическим и психическим контролем, прессингом и — чаще всего — полным отсутствием «карательной сдержанности» содержатся на деньги из госбюджета, а потом выходят на свободу не только неисправившимися и нераскаявшимися, но и несоциализированными — то есть теми, кому как будто специально созданы все условия для рецидива.
«Тюрьма плодит делинквентов», — пишет Фуко. И это действительно так: тюрьма в ее нынешнем виде не исправляет, не учит, не помогает пересмотреть приоритеты. Неэффективность всей пенитенциарной системы настолько бросается в глаза, что остается только удивляться, как она вообще до сих пор жива. При этом, наверное, нет ни одной другой системы госинситутов (ни в РФ, ни во Франции, ни где угодно), которая стояла бы так надежно и чье реформирование казалось бы настолько нереальным.
Но Фуко в своей книге, понятное дело, не ограничивается простой констатацией, что «все плохо», иначе зачем бы ее вообще писать. Он предлагает несколько идей, касающихся того, какой должна быть прекрасная тюрьма будущего. Семь таких идей принадлежат не ему — он их называет «универсальными максимами хорошего «пенитенциарного состояния», и это обобщение тех представлений об идеальной тюрьме, которые озвучиваются постоянно, из года в год, но все никак не воплощаются в жизнь. В принципе, перечисляя их, Фуко тоже выглядит как «капитан Очевидность» и прекрасно сам это осознает, но что поделать, если все они действительно являются жизненно необходимыми для реформирования системы. Вот эти критерии идеальной тюрьмы:
- «Наказание путем лишения свободы имеет своей главной целью изменение и социальную реабилитацию индивида». Принцип исправления.
- Заключенные должны быть изолированы или по край ней мере распределены с учетом правовой тяжести деяния, но главное — возраста, наклонностей, применяемых методов исправления и стадий перевоспитания.
- Должно быть возможным изменение наказания в зависимости от индивидуальности заключенных, достигнутых результатов, продвижения вперед или срывов.
- Работа должна быть одним из основных элементов преобразования и постепенной социализации заключенных. Тюремный труд «должен расцениваться не как дополнение или некое утяжеление наказания, но как смягчение, которого заключенный уже не может лишиться».
- Только воспитание может служить пенитенциарным инструментом. Вопрос исправительного заключения есть вопрос воспитания.
- Тюремный режим должен, по крайней мере частично, контролироваться и руководиться специальным персоналом, который обладает моральными качествами и техническими возможностями, обеспечивающими правильное формирование индивидов.
- Заключение должно сопровождаться мерами контроля и содействия вплоть до полной реадаптации бывшего заключенного.
К этим, мягко говоря, идеалистическим идеям Фуко добавляет свою — не менее, по-моему, идеалистическую: он считает, что в каждом конкретном случае следствие должно не только руководствоваться физическими уликами и доказательствами, но еще и применять биографический подход: изучать жизнь подсудимого и думать о том, что же сделало его преступником. Иначе говоря, Фуко предлагает применять свой любимый психоанализ, хотя напрямую об этом не говорит. Понятно, что в реальности эта сказочная мечта очень быстро разобьется о быт судебной бюрократии, особенно если это попытаться проповедовать российским бюрократам с их конвейерным мышлением.
Тем не менее другой путь реформирования тюрьмы, кроме как по Фуко, действительно представить сложно: до тех пор, пока конвейер не сменится человеческим и профессиональным отношением к каждому подозреваемому, пока «карательная сдержанность» не станет реальностью, пока тюрьма не начнет быть оправданным и функционально полезным учреждением, которое исправляет, а не калечит, до тех пор никакой иной пенитенциарной системы, кроме нынешнего наследника ГУЛАГа, создать будет невозможно.
И конечно, вряд ли что-то изменится к лучшему, если книги вроде «Надзирать и наказывать» станут изымать из магазинов. Хотя, может, и к лучшему — хоть почитают, бесплатно же.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68