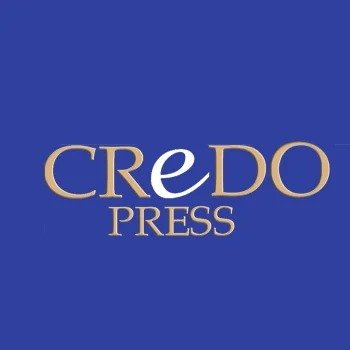Члены фракции «Новые люди» со второй попытки внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете публичных богослужений в жилом секторе. Нынешний вариант согласован с РПЦ и правительством. Хотя авторы закона целятся в мигрантов-мусульман, его жертвами окажутся и христиане, и буддисты, и новые религиозные движения. Это при том, что действующий российский закон о религии и так состоит из сплошных запретов и ограничений…
Жилье — не для молитвы
Законопроект о внесении очередных изменений в российский закон о свободе совести официально зарегистрирован в базе Госдумы во второй половине июня. Его внесли депутаты от квазилиберальной фракции «Новые люди», хотя суть поправок далека от какого-либо либерализма.
У проекта была сложная история: его первую редакцию осенью прошлого года раскритиковала РПЦ, в декабре правительство предложило смягчить текст, весной депутаты доложили, что текст готов, и вот наконец его внесли в парламент. Авторы законопроекта —
- Сардана Авксентьева,
- Олег Леонов,
- Владимир Плякин,
- Анна Скрозникова,
- Антон Ткачев,
- Роза Чемерис.
На ниве законотворчества в сфере «защиты традиционных ценностей» ранее проявляла себя лишь Авксентьева — как соавтор закона, запрещающего трансгендерный переход.
Судя по пояснительной записке к проекту: «Новые люди» озаботились запретом богослужений в контексте антимигрантской истерики, которая сегодня востребована российской пропагандой, в том числе и церковной.
Первоначальный текст законопроекта, запрещавший любые религиозные обряды в жилом секторе, вызвал протест главы правового управления патриархии игумении Ксении (Чернеги). Разделяя «обеспокоенность авторов законопроекта религиозной активностью мигрантов», она попросила изменить текст так, чтобы оставалась возможность соборовать, исповедовать и причащать на дому тяжелобольных. 24 декабря проект в целом поддержало правительство РФ, которое также призвало смягчить текст в интересах РПЦ «и других традиционных конфессий».
Нынешняя редакция законопроекта вносит изменения в ст. 12 и 16 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», принятого в далеком 1997-м. В полном соответствии с советской антирелигиозной практикой запрещается «размещение религиозных организаций и осуществление ими богослужений, других религиозных обрядов и церемоний… в жилых и нежилых помещениях, расположенных в жилых (в том числе многоквартирных) домах». Исключение делается для централизованных религиозных организаций (типа РПЦ) и входящих в их структуру местных (приходов), но при условии, что в богослужениях будут участвовать только «лица, проживающие в соответствующих помещениях и домах».
Из пояснительной записки:
«Скопления многочисленных групп посторонних людей, не проживающих в многоквартирном доме, в том числе нелегальных мигрантов, увеличивают риски ухудшения криминогенной ситуации в районе, провоцируют бытовые конфликты, нарушают нормы противопожарной и общественной безопасности».
Особенно опасны такие «скопления» для детей, подчеркивают авторы.
Бывший помощник депутата Госдумы о. Глеба Якунина, российский правозащитник Лев Левинсон в беседе с «Новой» сказал, что, по его мнению, принятие нового закона сведет на нет деятельность религиозных групп. Это особая форма религиозных объединений, введенная законом 1997 года, для верующих, которые не входят в признанные государством централизованные организации и совместно молятся без образования юридического лица.
Согласно действующей редакции закона такие группы тоже обязаны регистрироваться и каждый год уведомлять Минюст о продолжении своей деятельности. В абсолютном большинстве случаев эти малые группы (по закону их могут создать три человека) собирались как раз в домах и квартирах.

Фото: Андрей Бок
Целились в мусульман…
По мнению опрошенных «Новой» экспертов, в первую очередь закон бьет по мусульманам. У этой конфессии очень противоречивое положение в РФ. С одной стороны, она признается второй по значимости «традиционной конфессией», патриарх Кирилл заверяет, что ислам ближе РПЦ, чем католицизм, а в ряде субъектов РФ (типа Чечни и Дагестана) практически действуют нормы шариата. С другой стороны, за пределами регионов с преобладающим исламским населением религиозная жизнь мусульман строго ограничена.
Например, в Москве и других крупных городах мусульманские общины десятилетиями не могут добиться разрешений на строительство новых мечетей. Нехватка мечетей особенно заметна в дни праздников типа Курбан-байрам, когда улицы и переулки вокруг четырех мечетей Москвы заполняются сотнями тысяч молящихся.
Казалось бы, руководство крупных городов в «немусульманских» регионах России выбрало западноевропейский путь решения проблемы: вместо новых больших мечетей разрешать деятельность массы мелких исламских центров, не создавая толпы и диверсифицируя религиозную жизнь.
За последние 10 лет в столице было зарегистрировано 25 религиозных организаций мусульман (в Подмосковье — около 40), но все попытки построить новую мечеть, даже на отдаленных и заброшенных территориях, остались безрезультатными.
Большинство вновь открывшихся центров расположилось в нежилых помещениях многоквартирных домов — на первых или цокольных этажах.
После начала СВО число таких малых центров стало сокращаться. В результате давления чиновников и местных жителей добровольно закрылись пять из них, но иногда вопрос решается силовым путем. Во всех оставшихся центрах периодически проводятся рейды силовиков, обыски, сопровождаемые прерыванием намазов, задержанием прихожан и мобилизацией некоторых из них. Чаще всего в этом контексте в лентах новостей мелькают молитвенные залы в Котельниках и в подмосковном Дзержинском.
В ноябре 2023-го был опечатан молитвенный дом мусульман в Южном Бутово, а в феврале прошлого года — помещения общины «Хафизлык» на улице Басовской в Москве. Расследуется дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В прошлом году снесли молитвенные дома «Абу Бакр» в Троицке (Новая Москва) и «Дружба» (недалеко от Лобни). Здания, где мусульмане молились много лет, признали «незаконными постройками».
Председатель Духовного управления мусульман РФ шейх Равиль Гайнутдин жаловался Путину:
«Участились рейды правоохранительных органов во время пятничных богослужений в мечети, поголовные проверки прихожан, доставка задержанных прямо из мечети в военкоматы. Такие действия, мы считаем, нерезультативны в борьбе с терроризмом и экстремизмом, с бесконтрольной миграцией, но они вызывают широкий резонанс <…>, принимая окраску борьбы с мусульманами <…>. Мечети — один из главных институтов социализации мигрантов».
Ключевой фигурой этой кампании в исламских кругах считают Александра Бастрыкина. На прошлогоднем Петербургском юридическом форуме он прямо заявил, что проблему нелегальной миграции не решить без борьбы с молитвенными помещениями. «Они создают объекты своей культуры, молельные дома, — возмущался глава СК. — То есть они вот уже физически захватывают нашу территорию». Рамзан Кадыров призывал главу СК отличать мусульман от «оголтелых фанатиков и шайтанов». Ситуация в городах-миллионниках выглядит тупиковой, если мусульманам запретят собираться на молитву вне официальных мечетей.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»
…попали и в христиан
Жертвами в целом «антимигрантского» закона станут и христиане. Например, последователи Международного совета церквей евангельских христиан-баптистов (МСЦ ЕХБ, известны также как «инициативники»). Отказ от госрегистрации стал частью их вероучения с советских времен. По мнению МСЦ ЕХБ, регистрация ставит церковь под контроль, а христианам заповедано быть свободными и не сливаться с миром.
Когда в 1990-е «инициативники» проповедовали, что «гонения еще вернутся», над ними смеялись. Сейчас уже не до смеха. В МСЦ ЕХБ входит более 2500 общин, из которых примерно 500 находится в России. За последние 30 лет многие из них построили молитвенные дома внушительных размеров, но все они являются частными и расположены в жилой застройке. Постепенная конфискация таких домов началась в 2018 году и подробно освещается Отделом заступничества МСЦ ЕХБ (телеграм-канал — @otdel_zastupnichestva). Например, 16 мая этого года приставы опечатали дом молитвы МСЦ ЕХБ в Курганинске (Краснодарский край). Лидерам общин ставят ультиматум: регистрация в качестве религиозной группы, переоформление дома в нежилое помещение, согласование миссионерской деятельности с властями. Кроме того, пасторов МСЦ ЕХБ регулярно штрафуют за «незаконную миссионерскую деятельность». Например, месяц назад суд в Брянске оштрафовал хозяина дома, где собирались баптисты.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите donate@novayagazeta.ru или звоните:
+7 (929) 612-03-68
Так или иначе новый закон затронет почти всех протестантов, которые привыкли к неформальному служению, в том числе домашнему.Протест выразил весьма статусный представитель церкви христиан-адвентистов Седьмого дня, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ пастор Олег Гончаров.
«Адвентисты категорически против этого законопроекта, — говорит пастор. — Он нарушает принципы свободы совести, прописанные в Конституции РФ. Если следовать логике законопроекта, тогда из жилых домов надо удалить магазины, клубы, рестораны, офисы Wildberries».
Но пострадают от закона и православные! Правда, преимущественно те, кто находится вне юрисдикции Московского патриархата.
В центре древнего Суздаля расположен Синодальный дом Российской православной автономной церкви (РПАЦ), куда в 2009 году (после того как у этой церкви отобрали все исторические храмы в городе) был перенесен кафедральный собор этой юрисдикции, объединяющей около 100 общин в разных странах. По адресу дома также зарегистрированы Архиерейский синод, епархиальное управление и монастырь. Однако статус дома — жилой, он находится в частной собственности первоиерарха РПАЦ митрополита Феодора (Гинеевского). По новому закону РПАЦ придется искать нежилое помещение для перерегистрации в нем своих руководящих органов, а в храм пускать только тех, кто прописан в доме митрополита. И таких примеров десятки!

Дом Российской Православной Автономной Церкви в Суздале. Фото: photosuzdal.ru
Абсолютное большинство «альтернативных» православных общин в России находится в жилых домах. Как сказал «Новой» глава одной из таких общин епископ Игнатий, служащий в поселке Мятлево под Калугой,
закон изгоняет их из правового поля — «они теперь должны стать буквально подпольщиками». Но и повторить опыт катакомбников советских времен не получится: в цифровую эпоху никто (тем более целые общины!) не сможет годами существовать втайне от власти.
Перелатанный закон
Действующий российский закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» производил странное впечатление с того самого дня, когда был принят в сентябре 1997 года. Его активно лоббировала РПЦ, пригрозившая Ельцину «напряженностью», и некоторые мусульмане, а папа римский и протестанты выступали против. Ельцин подписал этот закон со второй попытки, его авторами были члены фракции КПРФ (тогда в Думе они составляли большинство), а Конституционный суд отменял некоторые его положения. Бросается в глаза принципиальное противоречие закона ст. 14 и 28 Конституции РФ, устанавливающим равенство всех религиозных объединений и право каждого свободно иметь и распространять религиозные убеждения.
Закон делит «равные» религиозные объединения на три категории: централизованные организации, местные организации и группы без образования юрлица. У каждой из них — разный объем прав. Вводились 15-летний ценз для регистрации новых религиозных движений и религиоведческая госэкспертиза, через которую они должны были пройти (вначале ее возглавил главный «сектоборец» страны Александр Дворкин). Но ключевой оказалась преамбула закона, которая вроде бы не имеет прямой юридической силы.
Зато имеет внятную идеологию: в РФ провозглашаются четыре «традиционных конфессии»: православие, ислам, иудаизм и буддизм. Сегодня даже либералов перестало удивлять это деление на «традиционные» и «нетрадиционные», которое проецируется на всю гамму социально-политических отношений.
Но ныне действующая редакция закона о свободе совести лишь отдаленно напоминает первоначальную версию: по подсчетам Льва Левинсона, за эти 28 лет в нее было внесено 25 принципиальных поправок, не считая технических. В 2009-м лицам, осужденным по экстремистским статьям, запретили быть не только учредителями, но и «членами и участниками» религиозных организаций. Если читать это буквально, то им нельзя участвовать в богослужениях.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Служители культа, получившие духовное образование за рубежом, не имеют права служить в своих общинах в РФ, пока не пройдут «исправу» в отечественных религиозных институтах. В рамках достопамятного «пакета Яровой» (2016) под лозунгом борьбы с терроризмом в России запретили свободную миссионерскую деятельность, под которой закон понимает любой разговор о вере. Для такой деятельности нужно иметь «доверенность, выданную соответствующей религиозной организацией». Но даже с доверенностью нельзя рассказывать о вере несовершеннолетним, а также предлагать выгоды, в том числе нематериальные, в случае вступления в религиозное объединение. Спасение души и вечное блаженство можно считать выгодами?
«Пакет Яровой», если исполнять его буквально, лишает религию собственно религиозной мотивации, сводя ее к набору лозунгов о патриотизме и «традиционных ценностях». Можно спорить, насколько этот закон вообще исполним, но его философская суть — атеизация религии.
Такая религия — не для святых
Как ни удивительно, при таком объеме уже действующих запретов и ограничений религиозная тема остается одной из центральных в законотворчестве нынешнего созыва Госдумы. Правда, слово «религия» тут постепенно вытесняется более комплиментарными кремлевскому духу словами «традиция», «традиционное».
24 июня приняты в первом чтении поправки, запрещающие прокат фильмов, не соответствующих «традиционным российским духовно-нравственным ценностям». 10 июня — законопроект о защите религиозных символов «традиционных вероисповеданий», запрещающий изображать культовые объекты без их религиозной символики. (Тут нелишне вспомнить, как при Алексии II патриархия, наоборот, добивалась удаления крестов и священных изображений с этикеток — они исчезли даже с бутылок «Святого источника».) В этот же ряд можно поставить уже действующие законы о запрете идеологии «чайлдфри» (кроме религиозного целибата), пропаганды ЛГБТ* или смены пола.
По мнению правозащитника Льва Левинсона, в России с ее тяжелым православно-имперским и госатеистическим наследием отдельный закон о религии не нужен вообще.
Организационно-правовые вопросы деятельности религиозных объединений успешно решают законы о регистрации юрлиц, о некоммерческих организациях, о благотворительной деятельности, об образовании и т.п. В российских реалиях закон о религии — это обязательно идеология и многочисленные запреты.
Так же избыточна ст. 148 УК РФ — об оскорблении чувств верующих, — поскольку рассматриваемый в ней состав преступления малоотличим от хулиганства, а категория «чувств» не регулируется законом. Все новые запреты, накладываемые в России на религиозную жизнь, выдают как подсознательный страх перед религиозной стихией, оставшийся с советских времен, так и стремление жестко подчинить эту сферу политике, «обезвредить» религию. Неспроста популярным жанром в церковной среде становится составление перечней статей российских законов, которые нарушили бы Христос, Будда или канонизированные святые, живи они в современной РФ.
* Признана в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите donate@novayagazeta.ru или звоните:
+7 (929) 612-03-68