Экономика в минорных тонах
Главная экономическая сессия на Петербургском международном экономическом форуме, которую традиционно модерирует глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров, прошла в довольно минорных тонах.
Если на предыдущих Форумах руководители экономического блока (глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов) обменивались комментариями в стиле «все хорошо» — «нет, все гораздо лучше», то сейчас начальники решили посоревноваться в пессимизме.
В начале дискуссии Макаров спросил ее участников, как назвать то, что происходит с российской экономикой, — охлаждение или рецессия.
«По цифрам у нас сейчас охлаждение как бы, да, — сказал Максим Решетников. — Но все наши цифры — это зеркало заднего вида. А вот по текущим ощущениям бизнеса […] мы, в общем, уже, ну, как бы, мне кажется, на грани перехода в рецессию».
«Ну сейчас, я бы сказал, похолодание. А за похолоданием всегда приходит лето», — парировал Антон Силуанов.
Эльвира Набиуллина назвала ситуацию «выход из перегрева». «У нас экономика спроса росла, а экономика предложения отставала, оттуда были и перегрев, и инфляция».
Последние годы российская экономика росла за счет того, что задействовала все возможные трудовые ресурсы, замещала ушедший западный бизнес и наращивала инвестиции за счет бюджета, ФНБ и ускоренного кредитования, объяснила глава финансового регулятора, согласившись, что многие из этих ресурсов действительно уже исчерпаны.
Оценку главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что Россия находится на грани рецессии в разговоре с РБК прокомментировал бизнесмен Аркадий Ротенберг, один из немногих миллиардеров, принявших участие в ПМЭФ.
«Я не могу сказать, что времена такие легкие, что мы сегодня на коне, но стараемся, находим определенные пути, в этих условиях выживаем». По словам Ротенберга, его компании «были неплохо проинвестированы в предыдущие годы».
Отвечая на вопрос, чувствует ли он охлаждение экономики, Ротенберг сказал, что такой тренд есть. По его словам, это не очень хороший фактор для бизнеса, но «если для экономики страны это положительный вариант, то тогда будем смиряться».
С тезисом об исчерпанности модели роста согласен и сам председатель оргкомитета ПМЭФ Максим Орешкин, накануне форума выступивший в журнале «Эксперт» с программным интервью.

Максим Орешкин. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
«[Экономический] рывок в значительной степени произошел благодаря тому, что был активизирован спящий, незадействованный потенциал экономики. Прежде всего кадровый и производственный. Эта модель роста себя исчерпала. Столь низкого показателя безработицы, как в России, вы не найдете ни в одной крупной стране мира. Показатель загрузки существующих мощностей также находится на достаточно высоком уровне. Чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень».
На основе пессимистических комментариев руководителей российской экономики делается много выводов — например, о том, что правительство все понимает, и, возможно, скорректирует свою политику и выйдет на следующую организационную ступень, но…
Советы нобелевского лауреата
…на мой взгляд, дискуссия эта говорит только о том, что начальство знает, что такое «модель роста Солоу», и может ее пересказать в применении к российским реалиям.
Кто не знает, Роберт Солоу объяснял, что обеспечить постоянный экономический рост на основе накопления физического капитала (условно, ставя в ряд 100 500 станков) — невозможно. Да, само по себе увеличение количества станков, «заводов/пароходов», инфраструктуры — на первых порах даст рост (увеличение выпуска продукта).
Но как только экономика упрется в «ограничение по труду» (или в другие ресурсные ограничения), то каждый следующий установленный станок будет создавать все меньше дополнительного продукта (упрощенно — есть соотношение между трудом и капиталом: чем больше физического капитала на одного человека, тем меньше проку от каждого дополнительного станка, завода, дороги и пр.). При этом от второго станка меньше проку, чем от первого, от десятого меньше, чем от пятого станка, и так далее. Это называется уменьшение отдачи от масштаба.
И да, Роберт Солоу объяснял, что дальнейший рост должен строиться на чем-то таком, что не обладает убывающей отдачей от масштаба (технологии, инновации, открытия — в общем, люди должны что-то придумать).
Совет нобелевского лауреата по экономике хорош, но проблема в том, что развитие и внедрение инноваций требует накопления человеческого капитала, а такая штука не делается по команде. Серьезные научные и технологические прорывы — результат длительного процесса накопления навыков и знаний, а фундамент тех или иных инноваций закладывается задолго до того, как эти инновации входят в нашу жизнь.
Например, российские власти преуспевают в создании механизмов контроля за информационным пространством и строительством «файерволла», который рано или поздно отсечет Рунет от Всемирной сети, но эти технические решения создаются благодаря работе тех же самых команд программистов, которые создавали Рунет, и в некоторых аспектах действительно были (и остаются) «впереди планеты всей».
А вот просто так — создать по щелчку пальцев открытие, которое даст толчок всей экономике, — нельзя. Конечно, логика строительства «закрытого информационного пространства» понятна, но это все-таки не гарантия научных и технологических прорывов.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
Начальство это прекрасно знает, так же как и то, что преодолеть ограничения по ресурсам и капиталу на макроуровне можно двумя способами.
Первый способ — привлечь капитал извне, но… Для этого вам надо будет поступиться принципами и властью, и идти этим путем готовы не все начальники. Они уже убедились, что никакой значимый капитал за последние три года в РФ не пришел, новые покупатели российских ресурсов готовы предложить в обмен на нефть ширпотреб и технику собственного производства и помочь в обходе внешнеторговых ограничений, но не более того.
А если не получается привлечь капитал, то на макроуровне вам надо повысить норму прибыли бизнеса, что расширит возможности инвестирования/ускоренного развития т.н. торгуемого сектора (производящего товары с высокой добавленной стоимостью). Но для этого вам надо будет снизить цену труда с поправкой на производительность, т.е. снизить Unit Labor Costs (ULC) — затраты на рабочую силу для производства единицы товара (нет капитала — значит, нажимаем на труд). То есть фактически вам придется снизить/задержать рост уровня жизни населения. Проблема в том, что люди могут не захотеть терпеть, пока бизнес «накопит и инвестирует», тем более этого может и не произойти вообще.
Правда, если у вас есть дорогая нефть, то ситуация выглядит лучше —доходы от нефти станут эквивалентом капитала: вы просто купите за границей то, что не можете произвести сами (не только товары, но и средства их производства). Но, опять же, «нефтяной картой» нужно успеть сыграть, потому что приток нефтедолларов, прежде чем «переплавиться» в инвестиции и стать капиталом, толкнет вверх уровень потребления, в первую очередь уровень потребления элиты, что не может не вызвать недовольства всех, кого к распределению ренты не допустили. Собственно, это ситуацию мы уже наблюдали.
Ну а если избытка дорогой нефти уже нет и капитал привлечь не получается — остается рассчитывать на расходы правительства, которое каким-то образом перераспределит ресурсы или найдет деньги.
Дело не в деньгах?
Но и с правительственными деньгами не все так просто, об этом на «деловом завтраке» Сбера в рамках ПМЭФ заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, днем раньше модерировавший главную экономическую сессию Форума.
«Потребности трудящихся будут расти и дальше постоянно. А у государства денег на постоянно возрастающие потребности может не хватить», — подчеркнул Макаров.
По словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Макарова, без государственного импульса решение проблем невозможно, но и постоянно увеличивать расходы бюджета также возможности нет. По данным Минфина, ликвидные активы Фонда национального благосостояния, за счет которых закрывался бюджетный дефицит, за три года сократились втрое и на 1 июня опустились до 2,8 трлн рублей.
«Не может государство постоянно финансировать. Национальные проекты увеличиваются в деньгах, не могут постоянно расти государственные расходы. Без того, чтобы завести вот этот механизм участия частного бизнеса, система не полетит», — сказал Макаров.
Однако бизнес практически не участвует в проектах, от которых правительство ждет ускорения экономического роста и технологического прорыва. Бизнес в свою очередь кивает на высокие ставки по кредитам и проблемы с защитой частной собственности.
«Высокая стоимость кредитования» — главный вызов, стоящий перед российской экономикой в следующем году, судя по результатам опроса, проведенного во время бизнес-завтрака Сбера на ПМЭФ среди участников завтрака и зрителей трансляции. Ответ «высокая стоимость кредитования» набрал без малого 50% голосов, причем что у самих участников завтрака, что у тех, кто следил за трансляцией онлайн.
На втором месте в рейтинге неприятностей оказался «инвестиционный климат и права собственности», а такие проблемы, как «падение цен на сырье», «нехватка рабочей силы» и «недоступность технологий», по мнению тех, кто участвовал в бизнес-завтраке, это вообще мелочи.
На самом деле, голосования и опросы такого рода — это отражение «дискуссии о курице и яйце — что было раньше»: кто-то считает, что высокая ставка/недоступность кредита — это производная от системных проблем в экономике (и я солидарен с этим тезисом), кому-то ближе точка зрения, согласно которой проблемы в экономике — это производная от ставки.

XXVIII Петербургский международный экономический форум. Слева направо: глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф
В качестве возражения результатам опроса на ПМЭФ, я мог бы предложить данные исследований РАН («Российские предприятия в конце 2024 года: обострение проблем в условиях внешнеэкономических санкций и высокой ключевой ставки» // Проблемы прогнозирования. 2025. № 3). В статье ожидаемо приводятся данные о недовольстве бизнеса высокой ставкой, но есть и данные о доле предприятий, способных получить краткосрочный или долгосрочный инвестиционный кредит.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
Так вот, на протяжении последних 12 лет эта доля колебалась в интервале от 10,7% до 14,4%, какая бы ни была ключевая ставка — кстати, на минимуме 10,7% эта доля предприятий была в конце 2016 года, когда ставка была 10%. 2020 год — не очень показательный, карантинные ограничения все исказили, но вот конец 2021 года — ставка 7,5%, доля предприятий, способных взять «инвестиционный кредит», — 11,6%.
То есть от 10 до 15% РФ-предприятий могут получить инвестиционный кредит при любой ставке, а 85–90% предприятий не могут получить кредит ни при какой ставке. И это соотношение почти не меняется.
Отчего так?
То, что кредиты на самом деле дают не абстрактные банки условным предприятиям, а реальные банкиры — владельцам предприятий. Одни конкретные люди дают (или не дают) в долг другим конкретным людям.
Узок круг участников элитных бизнес-завтраков, все они прекрасно друг друга знают, и как бы ни старался «владелец бизнеса», как бы ни доказывал публике, что свое «промышленное предприятие» — завод/пароход/шахту — он честно купил на деньги, сэкономленные на школьных завтраках сорок лет назад (или на ваучеры, которые покупал у метро в «девяностые»), его друзья-банкиры между собой прекрасно знают, откуда у такого деятеля взялись «активы», как он «отвечает по обязательствам» и — ну давайте смотреть правде в глаза — кто из больших начальников помогает/не мешает развиваться его бизнесу.
Ну как давать кому-то кредит, если все в тусовочке знают, что кредиты он не возвращает? Обслуживает (платит проценты в лучшем случае), но не возвращает. Или весь его бизнес держится на добром отношении большого человека? Изменится отношение, не будет большого человека — и бизнес исчезнет вместе с владельцем, а новый хозяин стен и корпусов предприятия скажет: ничего не знаю, сам ищи, кого ты там кредитовал. И вообще — может произойти что угодно.
Был такой старый рассказ О. Генри «Друзья из Сан-Розарио», там один банкир объясняет другому, почему он выдал из кассы 20 тысяч долларов (огромные деньги в то время) под «простую расписку, без всякого обеспечения», то есть под клочок бумаги с подписью, какому-то Джиму Фишеру, «потому что Джим Фишер — золотой парень и не подведет. Ты помнишь Джима Фишера, это он тогда застрелил банкомета в Эль-Пасо». Да, еще бы я не помнил Джима Фишера, соглашается второй банкир.
Если бы у банкиров и хозяев бизнеса существовали какие-то независимые механизмы разрешения деловых споров, то риски ведения бизнеса не закладывались бы в ставки по кредитам. А эти риски закладываются.
Дело не в ставке.
Вообще результаты опроса о «главных вызовах РФ-экономики», который провели на бизнес-завтраке Сбера на ПМЭФ, хорошо отражают разницу в восприятии этих вызовов «конкретными людьми» (которые завтракают на ПМЭФ) и теми, кому только разрешают посмотреть онлайн, как «конкретные люди» дискутируют об экономике.
И «участники бизнес-завтрака», и «зрители бизнес-завтрака» почти солидарны во мнении, что «стоимость кредитования» является «вызовом для бизнеса» там, соответственно, 49,5% и 46,5% голосов, а «сложности с экспортом» и «недоступность технологий» — это так, мелочи, 11–12% голосов.
Но есть позиции, по которым мнения «зрителей и участников» расходятся значительно — «нехватку рабочей силы» считают вызовом 22% «зрителей» и только 9% «участников», а вот «угрозу правам собственности» видят проблемой 18% «участников» и только 9% «зрителей».
Это очень серьезное расхождение в оценках проблем. Откуда оно взялось?
Ну тут на самом деле просто.
«Участники бизнес-завтрака», знают, как устроен бизнес, и понимают, что никакого такого дефицита рабочей силы нет — есть нежелание собственников платить работникам за их труд, в то время как «зрители бизнес-завтрака», начитавшись деловой прессы, наивно думают, что бизнес переживает по поводу нехватки работников, а значит, в ближайшее время их не выгонят из офиса. Пусть не обольщаются: бизнесу не хватает дешевых работников, а те, кто претендует на чуть большую зарплату, за право работать чуть ли не дерутся между собой.
А вот что касается «угрозы правам собственности», то неудивительно, что зрители бизнес-завтрака такой угрозы не видят — какая у них собственность? — право проживания в квартире и кредитная машина, ну еще гаджет, через который они смотрят, как обсуждают экономику ее хозяева? А вот участники бизнес-завтрака, которым есть что терять, знают о реальном содержании права собственности и чувствуют связанную с этими правами угрозу.
Лес за деревьями
Но с экономическим ростом еще вот какая проблема — как объяснял тот же Роберт Солоу.
«О ВВП постоянно говорят в прессе, по телевидению и т.п., и большинство людей думают, что ВВП предназначен для измерения экономического благосостояния.
Однако он не для этого. Он задуман как мера экономической активности.
А не как индикатор, указывающий, направлена ли эта экономическая активность на правильные цели…»
Так почему тогда начальство так зациклено на показателях роста?
В 1975 году экономист Чарльз Гудхарт, советник Bank of England, рассуждая о проблемах управления денежно-кредитной политикой, сформулировал правило, которое сам назвал «законом Гудхарта»: any observed statistical regularity will tend to collapse once pressure is placed upon it for control purposes, или «любая наблюдаемая статистическая закономерность склонна к разрушению, как только на неё оказывается давление с целью управления [экономикой]».
В более широком смысле мысль Гудхарта заключалась в следующем: «Когда мера становится целью, она перестает быть хорошей мерой», потому что становится объектом манипулирования как прямого (фальсификация чисел), так и косвенного (работа исключительно для улучшения этой меры)».
Так, если экономический показатель становится целевой функцией для проведения экономической политики, прежние эмпирические закономерности, использующие данный показатель, перестают действовать.
В принципе, закон Гудхарта объясняет, почему показатели, которые демонстрирует нам Росстат (тот же рост ВВП), сами по себе еще не означают, что экономика РФ находится в хорошем состоянии и движется в правильном направлении.
Нет, Росстат не манипулирует данными. Просто зацикленность начальства исключительно на показателях («деревьях») приводит к тому, что за этими «деревьями» становится не видно «леса» (то есть экономики и действительных причин ее подъема и стагнации).
Как это работает?

XXVIII Петербургский международный экономический форум. Сессия «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов». Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
Начальство ставит задачу — рост ВВП, как показатель того, что все в порядке. Отлично, говорит правительство, выделяем бюджетные средства в несколько отраслей и платим, не считая денег. Формально Росстат фиксирует рост (и он прав!), но накачивание бюджетными деньгами «обрабатывающей промышленности» не означает роста благосостояния всего общества.
Да, та часть общества, которая подставила шапку под золотой дождь правительственных расходов, живет хорошо, но правительство финансирует эту хорошую жизнь за счет нагрузки на ресурсы другой части общества — и, если там будут меньше работать, правительству неоткуда будет брать денег для того, чтобы платить тем, кто ему нужен по-настоящему. Поэтому правительству, создавшему механизм по перекачке ресурсов из одной части экономики в другую, пришлось задуматься: а что же нужно сделать, чтобы та, «другая часть» экономики, живущая «на свои», продолжала работать хорошо.
Ответа пока нет. Хотя Герман Греф, глава Сбера, дал нам почву для размышлений по этому поводу, когда напомнил об отставании России от развитых стран в производительности труда. «По разным отраслям мы отстаем от 40% до четырех раз… С другой стороны, это очень хорошая новость, потому что сейчас время как раз направить все свои усилия в таких условиях на оптимизацию собственного бизнеса, оптимизацию издержек и вскрытие тех резервов, которые, очевидно, у каждого из нас есть».
Нет доступа к капиталу — значит, для экономического роста нажмем на труд.
Но так ли уж начальству нужен экономический рост?
По этому поводу тот же Роберт Солоу объяснял, что нет такого экономического закона или принципа, который утверждал бы, что экономика без роста не может существовать и процветать. Нигде не написано, что для рыночной экономики выбор заключается в том, что она должна либо расти, либо умереть, говорил Солоу в интервью со Стивеном Левиттом, соавтором Freakonomics.
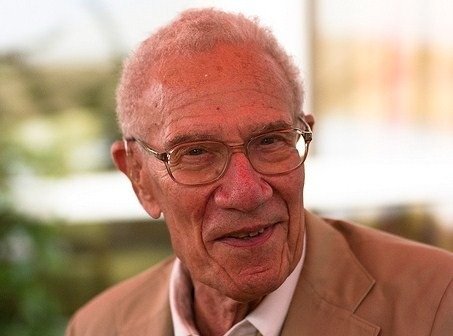
Роберт Солоу. Фото: википедия
«На что была бы похожа экономика, если бы она была стационарной, то есть не росла и не сокращалась. Численность населения постоянна, и никаких инноваций не происходит. Нет новых продуктов, нет новых отраслей, ничего подобного. Экономика стационарна и просто воспроизводит сама себя.
Единственный сбой, который может возникнуть в этом стационарном состоянии, состоит в том, что население захочет увеличить свое богатство за счет сбережений. Но мы не можем позволить этим сбережениям стать инвестициями, поскольку, если сбережения пойдут на строительство новых заводов, новых зданий и т.п., это переведет экономику из стационарного состояния в состояние роста.
Есть простое решение этой проблемы: правительство удовлетворяет стремление населения к накоплениям, создавая дефицит и продавая населению облигации, а вырученные средства не использует для строительства чего-либо еще нового, но тратит их на красивые фейерверки, замечательные концерты, как у древних афинян.
Такая ситуация может продолжаться вечно.
Но в экономике, где отсутствует рост, не возникает ни новых отраслей, ни новых продуктов. И это не может быть хорошо для социальной мобильности.
В такой экономике из года в год будут самовоспроизводиться одни и те же хорошие рабочие места и профессии с высоким статусом, и люди, занимающие эти рабочие места, будут готовить своих детей, чтобы те пошли по их стопам.
Подобное общество будет склонно к наследственной олигархии, и это плохо», — заключал Роберт Солоу.
Но это для общества, может быть, и плохо. Для олигархии-то все хорошо…
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68

