18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ВИШНЕВСКИМ БОРИСОМ ЛАЗАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ВИШНЕВСКОГО БОРИСА ЛАЗАРЕВИЧА.
Именно «навсегда», как я был до перестройки уверен, было все, что виделось вокруг.
Единственная партия и единственная точка зрения на всех трех тогдашних телеканалах и во всех газетах (разве что в «Литературной газете» дозволялось легкое и неопасное для властей вольнодумство).
«Выборы» с одним кандидатом на одно место, на которых неизменно одерживал сокрушительную победу «нерушимый блок коммунистов и беспартийных». Над кем этот блок одержал победу, не сообщалось (соответствующий вопрос, заданный в десятом классе на уроке обществоведения, стоил мне тройки в четверти).
Невозможность читать то, что хочешь: одни книги были страшным дефицитом, и их надо было «доставать» всеми правдами и неправдами, другие были под запретом и, в лучшем случае, ходили в машинописных копиях (помнится, «Архипелаг» давали почитать на ночь).
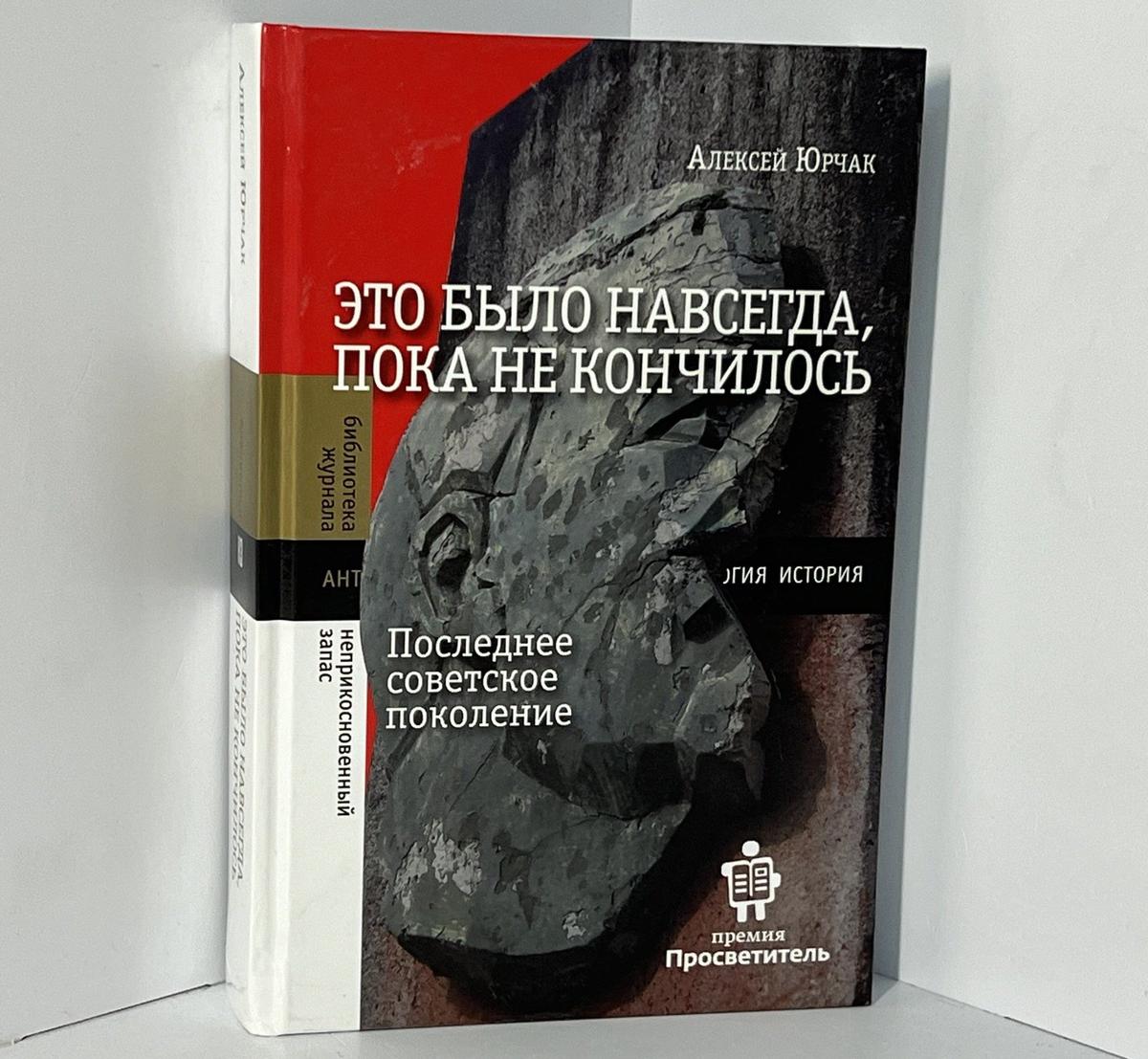
Книга Алексея Юрчака
Невозможность свободно говорить то, что думаешь, иначе как на кухне или в кругу друзей, которые точно не донесут (первые в жизни доносы на меня написали, когда я на работе вслух возмущался введением «ограниченного контингента советских войск» в Афганистан: спасло то, что меня как молодого специалиста нельзя было уволить).
Невозможность путешествовать по миру — пределом мечтаний была путевка в социалистическую страну Болгарию, для которой нужно было получать рекомендации от парткома и профкома, а о капиталистических и думать не следовало (мне-то, со «второй формой» допуска к секретным документам, и Болгария не светила)…
Тогда, перед началом перестройки, в феврале 1985-го, мне было тридцать, и я трудился, после окончания физматшколы и ЛЭТИ, ведущим инженером в НИИ.
В рабочее время разрабатывал алгоритмы обработки информации для самолетных навигационных систем, ездил на летные испытания, писал научные статьи и заканчивал кандидатскую диссертацию. В нерабочее — читал Стругацких, лазил по горам, пел с друзьями песни Визбора, Окуджавы, Кукина и Городницкого, немного сочинял сам.
Выходные проводил на скалах под Выборгом или Приозерском на тренировках, ходил в народную дружину и сдавал кровь как донор, чтобы заработать дополнительные выходные к отпуску и летнему путешествию на Кавказ, Памир или Тянь-Шань.
В общем, все, как полагалось типичному интеллигенту-технарю той эпохи.
С одной стороны — родители, школа и математическое образование приучили критически относиться к окружающему, не верить официальной пропаганде и прекрасно понимать, о какой именно стране пишут Стругацкие в «Обитаемом острове».
С другой — не хотелось рисковать «ломкой» жизни: открыто протестовать, встать в ряды диссидентов, потерять работу и отправиться в лагерь.
И потому выходом, как и для многих таких же, как я, были «отдушины»: путешествия (большей частью, горные), фантастика и авторская песня.
Брежнева, давно ставшего героем анекдотов, на посту генсека КПСС сменил Андропов, его — Черненко, и ожидалось, что следующим будет такой же персонаж, ничем не выделяющийся из привычного образа большого партийного начальника, чьи портреты к 1 мая вывешивались на здании Гостиного двора.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68

Андрей Громыко, Константин Черненко и Юрий Андропов. Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС
Потом это время назовут «застоем» — потому что годами ничего принципиально не менялось. И была, как уже сказано, полная уверенность, что так же будет и через многие десятилетия: никаких серьезных изменений не случится.
Перемен не предвещало ровным счетом ничего: за две недели до кончины Черненко проходили очередные выборы в Верховный Совет — с традиционным одним кандидатом на одно место и с заранее известным результатом.
И тут вдруг, после траурного сообщения, приходит новость, что новым Генеральным секретарем ЦК КПСС избран какой-то непозволительно молодой (54 года) и малоизвестный Михаил Сергеевич Горбачев. Ну, думаю, избран и избран: не все ли равно, кто там «наверху»? Будет продолжать все, как было раньше.
Проходит два месяца — и Горбачев приезжает в Ленинград. И начинает вести себя совершенно не так, как мы привыкли: выходит из машины, говорит с людьми, причем не казенным, а вполне «живым» языком. Его просят «быть ближе к народу» — он отшучивается «куда уж ближе» (вокруг стоит толпа людей). А затем, на встрече с активом горкома КПСС (о чем пишут все газеты), говорит впоследствии знаменитое «нам всем надо перестраиваться».
Ощущение, что в годами запертой душной комнате — нет, еще не открыли окно, но точно открыли форточку.
Потом начинаются разговоры про «ускорение»: надо все автоматизировать и переводить на компьютерную основу.
Компьютеры, чтобы вы понимали, читатель, — это не то, что сейчас стоит почти у каждого на столе. Это несколько шкафов, занимающих комнату, а то и целый зал. На таких компьютерах (название помню, как сейчас, хоть ночью разбуди: БЭСМ-6) я двенадцать лет в НИИ делал свои расчеты. И тем не менее стремление к компьютеризации — это хорошо и важно: вдруг, думаю, и компьютеры станут получше? Они и стали — причем настолько, насколько тогда и вообразить было невозможно…
Правда, сразу за «ускорением» начинается «антиалкогольная кампания» со всеми вытекающими — начиная с «общества борьбы за трезвость» (куда я категорически отказался записываться) и заканчивая анекдотами «следующая остановка — середина очереди в винный магазин».
И начинает казаться, что открывшаяся «форточка» снова закрывается. Но, как выясняется, это не так.
Ощутимо меняется тон телепередач и газетных статей, где говорится о взаимоотношениях с Западом. В новогоднюю ночь 1986 года мы, широко раскрыв глаза, наблюдаем невиданный доселе формат: к народу СССР обращается президент США Рональд Рейган, а к народу США — Михаил Горбачев, демонстрируя желание снизить напряженность в мире. А через две недели Горбачев говорит о программе полной ликвидации ядерного оружия в мире.
Осенью 1986-го Горбачев и Рейган проводят знаменитую встречу в Рейкьявике, в декабре из горьковской ссылки возвращают академика Андрея Сахарова и его жену Елену Боннэр, а затем начинают отпускать политических заключенных. И прямо на глазах смягчается цензура: на телевидении и в газетах начинают публично обсуждать ранее запретные темы, в том числе сталинские репрессии, и выходят ранее запрещенные книги: становится можно прочесть не в «четвертой копии», которую «берет «Эрика» (кто тогда жил — поймет метафору), а в нормальном виде «Дети Арбата», «Жизнь и судьба», «Архипелаг» и многие другие. А затем на телевидении появляется программа «Взгляд» — от которой было невозможно оторваться…

Рональд Рейган и Михаил Горбачев в Женеве. Фото: Фотохроника ТАСС
В том же 1987-м на прилавках книжных магазинов появляется книга Горбачева «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира», которую я купил вовсе не по обязанности, а потому, что там были написаны ранее немыслимые вещи: что идеологические и экономические разногласия между социализмом и капитализмом должны отступить перед необходимостью защиты общечеловеческих ценностей.
Это первый раз на моей памяти, когда мы слышим от главы государства (и вообще слышим) такие слова — об общечеловеческих ценностях.
Наконец, летом 1988 года в газете «Правда» публикуют статью Горбачева, где сказано, что «инакомыслие — это мотор духовного и научно-технического прогресса».
Слова «двоемыслие» мы тогда не знали («1984» Оруэлла «Новый мир» напечатает только в 1989-м), хотя именно так и жили: дома или с друзьями говорили то, что думали, а на работе — то, что полагалось.
И тут глава государства говорит, что именно инакомыслие, а вовсе не официальное единомыслие, есть необходимое условие прогресса. Иначе говоря, с властью можно не соглашаться — и за это не накажут.
Потом будут выборы 1989-го, съезд народных депутатов, ГКЧП и распад Союза.
Потом надежды сменятся разочарованиями, воодушевление — усталостью, а движение в будущее — возвращением назад.
Но память о тех годах, когда были и надежды, и воодушевление, и движение в будущее, — останется.
«Мы знаем: тоталитаризм ТОЧНО не вечен, даже самый глухой и безнадежный. Поэтому перспектива — есть. И надо делать все от тебя зависящее, чтобы эту перспективу приблизить», — говорил мне Борис Стругацкий почти двадцать лет назад.
* Власти РФ считают «иностранным агентом».
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
