Значительные колебания цен на нефть вновь заставляют задуматься: что будет, если снижение цен на главный экспортный ресурс России будет устойчивым и длительным. Как выразилась Эльвира Набиуллина, выступая 9 апреля в Государственной думе: «тектонические изменения в мировой торговле… разворачиваются у нас на глазах, и пока очень сложно судить о том, и куда они приведут мировую экономику, и как отразятся на России. Это новый значительный риск, который мы должны учитывать». Но в чем заключается этот риск на самом деле?
Ничего неожиданного, но…
На самом деле снижения цен на нефть рынок ждал давно, и в пользу такого сценария работало несколько факторов.
- Торможение спроса в Китае из-за электромобильной революции.
- Рост предложения в Южной Америке, где благодаря использованию плавучих установок (FPSO) добыча на морских проектах не остановится даже при резком падении цен.
- Развитие экспортной инфраструктуры в Северной Америке, которое позволит расширить географию поставок нефти из США и Канады.
- Большой профицит мощностей на Ближнем Востоке, где разница между фактическим и предельно возможным объемом добычи достигла максимума с середины 2021 года, когда в ряде стран-потребителей сохранились карантинные ограничения.
По данным Управления энергетической информации (EIA), к началу марта 2025 года профицит нефтедобывающих мощностей составлял 4,8 млн баррелей в сутки, что превышает текущий объем добычи в Ираке, втором по величине производителе нефти в ОПЕК.
Однако для падения цен на нефть рынку не хватало события-триггера, и на практике таким триггером стала внешнеторговая политика администрации Трампа: ввод тарифов в отношении сотен государств (включая Китай и страны ЕС) спровоцировал ожидания мировой экономической рецессии.
Уже на следующий день после введения американских тарифов альянс ОПЕК+ принял решение о самом серьезном за долгое время увеличении квот.
Теперь вопрос лишь в том, когда страны Ближнего Востока устроят «гонку предложения», пытаясь компенсировать потери от падения цен за счет увеличения добычи.
Решение администрации Трампа ввести высокие тарифы в отношении Китая повышает риск «гонки предложения» на рынке нефти. Речь идет о повторении сценария марта 2020 г., когда вслед за выходом России из сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия начала резко наращивать добычу, из-за чего цена Brent опустилась ниже $30 за баррель еще до политики карантинов.
«Гонка предложения» и будет означать конец сделки ОПЕК+, которая продлила эпоху высоких цен на нефть, но не «пересилила» долгосрочные тренды.
Сможет ли РФ принять участие в этой гонке?
Большой вопрос.
По данным EIA, в феврале 2025 г. объем добычи нефти в России — без учета газового конденсата и легких углеводородов — составлял 8,93 млн б/с, что на 11% ниже, чем в феврале 2022 г. (10,05 млн б/с). С формальной точки зрения, это сокращение было связано с реализацией сделки ОПЕК+, в рамках которой квота России до марта 2025 г. составляла 8,98 млн б/с.
Но гипотетическое увеличение добычи в РФ может столкнуться сразу с несколькими препятствиями.
- Во-первых, в России преобладает так называемый насосный способ эксплуатации скважин, который, в отличие от фонтанного способа (как в Саудовской Аравии), отличается более высокими издержками и большей сложностью в регулировании объемов добычи.
- Во-вторых, решения Минфина по отмене льгот в сфере нефтедобычи в ряде случаев снизили ее рентабельность.
- В-третьих, увеличение мощностей нефтедобычи (и освоение новых месторождений) будет затруднено, пока будут сохраняться санкции в отношении нефтесервисных компаний и в отношении российской нефтяной отрасли в целом. (Администрация Трампа оставила эти санкции в силе.)
Таким образом, России, в силу названных причин, будет сложнее вернуться на прежний уровень добычи.
Откуда правительство возьмет деньги
Что может быть дальше?
- Вариант 1. Резкое падение цен приведет к сокращению добычи в США, после чего наступит коррекция, по итогам которой котировки Brent стабилизируются вблизи отметки в $60 за баррель. Долговременный рост цен выше этой отметки — с поправкой на долларовую инфляцию — будет сомнителен из-за дальнейшего распространения электромобилей: китайские производители будут компенсировать торговые ограничения в США и Европе за счет экспансии на развивающиеся рынки, что приведет к еще более серьезному торможению нефтяного спроса. Соответственно, российский сорт Urals окажется еще дешевле — со всеми последствиями для бюджета и правительственных расходов.
- Вариант 2. Все может быть еще не так плохо, говорят экономисты из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. В «Квартальном прогнозе ВВП» от 7 апреля они предполагают, что «тарифная война Трампа» не окажет значимого воздействия на экономический рост в России.
Такие ожидания опираются на гипотетический сценарий, согласно которому крупнейшие экономики в ситуации тарифной войны и сокращения мировой торговли поддержат свой бизнес и потребителей деньгами, снизив налоги и увеличив пособия, что в свою очередь подстегнет экономическую активность и поддержит глобальный спрос на сырьевые товары, являющиеся основой российского экспорта.
Если цены на нефть упадут незначительно — нет оснований предполагать, что правительство РФ не то что откажется от проводимой им политики, но и будет готово как-то ее корректировать.
Но если нефть будет дешеветь всерьез и надолго — тут тоже возможны варианты.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Для начала это будет означать исчерпание модели роста, оформившейся после 2022 года и сводившейся к вливанию бюджетных денег в ряд отраслей обрабатывающей промышленности (металлические изделия, например) и расширению кредита для нее, что в значительной мере и обеспечивало общий прирост ВВП (и одновременно запустило инфляцию). Минфину придется закладывать сокращение расходов в проект бюджета на 2026 год с учетом снижения доходов от нефтегазовой отрасли и сокращения прибылей и доходов всех, кто с этой отраслью связан.
Плюс — не забудем, что само по себе сокращение экспортной выручки обернется давлением на потребительский рынок: валюты станет меньше, она станет дороже, соответственно, то же самое произойдет и с импортными товарами.
Вместо выпавших нефтегазовых доходов правительству придется искать другие источники средств на продолжение своей политики.
Консервативный сценарий развития событий в этом случае предполагает, что правительство будет перекладывать налоговое бремя на другие отрасли экономики, компенсируя увеличение налогов улучшением бизнес-климата, как-то соблюдая базовые гарантии прав собственности, отказываясь от «национализации» и принимая меры для возвращения в Россию иностранных компаний.
В то же время замедление темпов роста бюджетных расходов облегчит ЦБ РФ борьбу с высокой инфляцией. Это также приведет и к охлаждению на рынке труда, где потребительским секторам в этом смысле трудно конкурировать с отраслями, оплачиваемыми правительством. Да, зарплаты расти перестанут, но может замедлиться и рост цен.
Если же этого не произойдет, то рецессия, которая будет неизбежной из-за сокращения бюджетных расходов, может впоследствии перейти в затяжную стагнацию — без перспектив роста реальных доходов.
А темпы роста РФ-экономике потребуются высокие в любом случае — как отмечал в своем новом докладе «О текущей экономической ситуации и некоторых перспективах развития» один из руководителей Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования» Дмитрий Белоусов:
«Для решения накопившихся социальных проблем, нормализации воспроизводства основного капитала и социальных институтов — темпы экономического роста не должны быть ниже 3–3.5% в год в течение 10 лет. Тем более, что резерв для такого повышения (по производительности труда, например) весьма велик».
Экономические уроки
Вопрос в том, какие формы может принять реализация такого вполне консервативного сценария?
Для ответа на этот вопрос надо оглянуться на 150 лет назад, когда в России, собственно, и начался экономический рост в его современном понимании, задать другой вопрос: а в чем заключается ключевая проблема «запуска» экономического роста для «догоняющей страны»?
В том, что у вас нет сбережений для инвестирования в т.н. торгуемые секторы, производящие товары с высокой добавленной стоимостью. Вот как в Российской империи у крестьян, живущих натуральным хозяйством, сбережений (в достаточных объемах) не было и быть не могло. Спрятанное в кубышке на черный день — не работало.
А что же делать?
На макроуровне вам надо повысить норму прибыли, что расширит возможности инвестирования/ускоренного развития торгуемого сектора.
Торгуемый сектор экономики — это часть экономики, которая производит товары и услуги, предназначенные для продажи на международном рынке (экспорт) или конкурирующие с импортными товарами внутри страны.
Это все, что можно продать за границу или что соперничает с зарубежными аналогами. Например:
- Товары: нефть, газ, машины, электроника, зерно.
- Услуги: IT-разработка, туризм, логистика, консалтинг.
Чем отличается от неторгуемого сектора?
- Неторгуемый сектор — это то, что продается и потребляется только внутри страны (например, парикмахерские услуги, ЖКХ, местный общественный транспорт).
Почему это важно для экономики?
Торгуемый сектор сильно зависит от курса валюты, мировых цен и конкуренции, а его развитие часто влияет на экономический рост.
- Зарабатывает валюту (экспорт помогает поддерживать курс рубля).
- Создает рабочие места (например, заводы или IT-компании).
- Влияет на благосостояние: если торгуемый сектор слабеет (например, из-за санкций), страна теряет доходы, а цены на импорт растут.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
Если мы говорим об экономике типа советской, в которой правительство есть монопольный бенефициар, менеджер и инвестор, то вам надо повысить бюджетные доходы. (Отметим, РФ-правительство на этом тоже зациклено.)
Как это сделать? Опять же с точки зрения макроэкономики вам надо будет тем или иным способом снизить уровень жизни населения (или задержать темпы роста этого уровня) и, соответственно, — снизить цену труда (с поправкой на производительность, т.е. Unit Labor Costs (ULC — затраты на рабочую силу для производства единицы товара).
1. Что такое производительность?
Производительность — это сколько товаров/услуг работник или компания создает за единицу времени (например, за час).
Примеры:
- Если раньше рабочий за смену собирал 10 телефонов, а после модернизации линии — 20, его производительность выросла в 2 раза.
- В IT: если программист раньше писал 100 строк кода в день, а с новыми инструментами — 300, его производительность повысилась.
Почему это важно для торгуемого сектора?
Чем выше производительность, тем:
- дешевле производство (можно снизить цены и конкурировать на мировом рынке);
- больше прибыль (можно вкладывать в развитие или платить зарплаты).
2. Что такое ULC (Unit Labor Costs)?
ULC — это затраты на рабочую силу для производства одной единицы товара.
Проще говоря:
- Если рабочим платят 1000 рублей в день, и они делают 10 деталей, то ULC = 100 руб./деталь.
- Если повысить зарплаты до 1500 руб., но производительность останется прежней (10 деталей), ULC вырастет до 150 руб./деталь → производство становится менее конкурентоспособным.
3. Как ULC влияет на торгуемый сектор?
- Низкий ULC (дешевый труд или высокая производительность):
- Страна может продавать товары дешево.
- Высокий ULC (дорогие зарплаты или низкая производительность):
- Цены растут, экспорт падает
Если ULC растет быстрее, чем у конкурентов, страна теряет долю рынка.
Итог:
- Производительность = сколько производим за время.
- ULC = сколько платим работникам за единицу товара.
- Чем ниже ULC, тем конкурентоспособнее торгуемый сектор (если не жертвуем качеством).
Если совсем просто: хотим экономического роста в условиях нехватки сбережений и капитала — ценой отказа от потребления — покупаем инвестиции в производство.
Но на практике у вас не так много вариантов «экономической политики» — и все эти варианты были использованы в России за последние полтораста лет.
1) Можно ввести импортные барьеры или просто запретить импорт, параллельно с максимальным открытием страны для притока внешнего капитала — как это и было сделано в 90-е годы XIX века.
Проблема: такой рост имеет ограничения. После того как «внешний капитал» построит все, что можно (вот как на французские деньги был построен Транссиб), оказывается, что сбережений у людей все равно недостаточно (результат вашей политики по снижению ULC), а механизмы накопления капитала либо не созданы, либо разрушены (как это произошло в России в 1920-е годы).
2) В этом случае вы можете сыграть в «ножницы цен»: дешево покупаем у крестьян сельхозпродукты и дорого продаем им промтовары, то есть снижаем потребление в одном из секторов экономики и за счет этого финансируем другой сектор (Иван Крылов описал такую политику в басне про «Тришкин кафтан»), чем, собственно, и занималась советская власть в 20-е годы ХХ века.
Такая модель работает ровно до момента, когда крестьяне не начнут снижать производительность своего хозяйства (раз все равно ничего не купить), что и произошло на рубеже 1930-х гг.
3) Тогда у вас есть вариант резко увеличить налогообложение потребления. В СССР это приняло форму коллективизации (а в городах были карточки, нормирование потребления — с точки зрения макро это тоже налогообложение потребления, то есть снижение ULC).
Такая политика позволила товарищу Сталину увеличить долю сбережения в ВВП почти втрое — с 13% до 30% и «построить промышленность».
Но проблема в том, что этой картой можно сыграть один раз — да, крестьяне уйдут из деревни в города, где вы поставите их к конвейерам,
но в какой-то момент этот человеческий ресурс закончится, и вы получаете падение объемов производства в деревне (некому работать) с одновременным снижением производительности в городе (нечего покупать).
Можно было бы вложить средства в сельское хозяйство — но у вас как не было, так и нет сбережений (вы же не просто так снижали ULC!) и нет капитала. И это та ситуация, с которой столкнулся СССР на рубеже 1960-х. Советское правительство распахало целину (не помогло), повысило цены на продукты с одновременным повышением норм выработки (опять снижение ULC) — то есть попробовало еще раз щелкнуть «ножницами цен», заставив рабочих дорого покупать продукты у крестьян, и в результате получило волнения в городах.
Подумав, правительство Никиты Хрущева приняло хорошее макроэкономическое решение:
вместо того чтобы замещать труд капиталом, оно «капитал» заместило «нефтью». Приток нефтедолларов позволил «оторвать от пола» норму сбережений, и доходы стали эквивалентом капитала, который за сто лет так и не получилось накопить.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
Собственно, эту роль «капитала» для экономики нефть играет и сейчас.
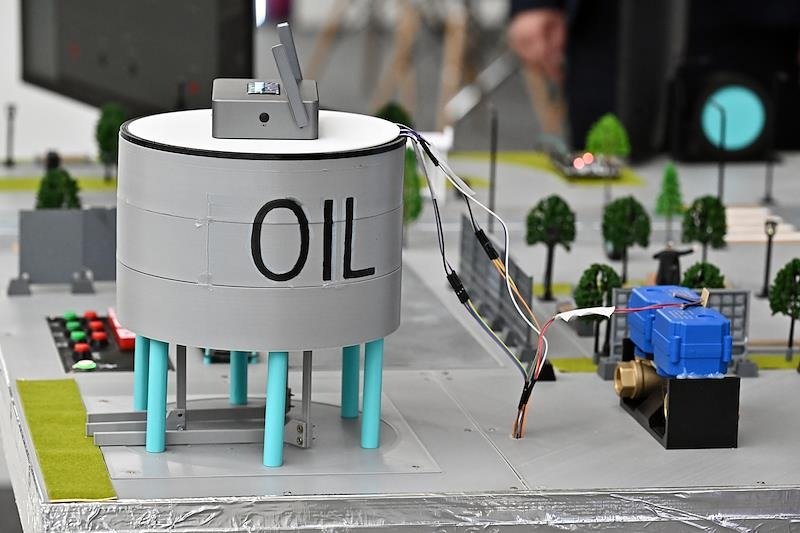
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Нефть как капитал
И «без нефти» никакие технологии, промышленность, «реальное производство» — вот это вот всё — работать не будут. А если «это производство» и будет «крутиться», то вам придется «крутить его» вручную.
Эту штуку ровно сто лет назад объяснял советским вождям сам Джон Мейнард Кейнс во время своего визита в СССР.
«— Для индустриализации нужен капитал (не в смысле деньги, а в смысле — станки, технологии, ноу-хау, вместе с механизмами обновления основных фондов), но капитала у вас нет, привлечь его вы не сможете.
— Это почему же? — удивлялись его высокопоставленные собеседники.
— Да потому, что никто его не даст…
— Ну как же, мы свои обязательства по концессиям выполняем…
— Да при чем тут эти обязательства, — пожимал плечами Кейнс, — концессии — это мелочь, привезли станки, поставили, немного заработали — забрали, а капитал — это другой уровень…
— Так почему не дадут-то?
— А вы на себя посмотрите. У вас люди не могут рот открыть, на правительство повлиять не могут, имущество у них могут в любую секунду отобрать… Ну, какой там капитал?
— Ну, так мы и без вашего капитала справимся, — обижались собеседники.
— Справитесь, если у вас будет дешевый или бесплатный труд, — отрезал Кейнс».
Вот такой примерно был там разговор.
Лет пятнадцать назад в Россию приезжал ректор Массачусетского технологического института Рафаэль Райф. Понятно, для беседы с главой MIT собрали самых разных начальников по науке, но что-то пошло не так. Профессор Райф, что называется, «не попал в аудиторию». Руководитель MIT рассказывал о демократической атмосфере своего университета и самого города Бостона, о способности использовать неудачи как позитивный опыт, о готовности к нестандартным решениям. Ну и так далее.
А это было не совсем то, что хотели услышать российские партнеры. Рассуждать про демократическую атмосферу Бостона им было глубоко неинтересно, и Райфу начали задавать чисто конкретные вопросы: «какие технологии надо покупать», «сколько по деньгам», «что на выходе», «как быстро»…
Я понимаю, сказал Райф, вам нужно молоко без коровы. Но так, к сожалению, не получается.
Фраза Райфа о молоке и корове глубже, чем может показаться, и требует пояснения.
«Молоко» — это капитал, а «корова» — механизмы его создания и накопления, и если страна на протяжении столетий испытывает нехватку этого самого капитала — значит, в этой стране нет таких механизмов, и неважно, что там написано в законах.
Капитал — такая штука, которая знает — может он сохраниться или нет, и если нет — значит, и создаваться, и накапливаться он не будет.
Капитала нет — но есть нефть, это и есть то самое «молоко без коровы», которое позволяет компенсировать нехватку капитала и снизить нагрузку на труд.Поэтому идея о том, что вот, мол, не будет дорогой нефти — начнутся какие-то реформы в пользу людей, идея очень привлекательная психологически, но мы помним, что в предыдущий раз, когда здесь сильно подешевела нефть, то все «реформы» — с точки зрения макроэкономики — были в первую очередь про то, как снизить цену труда, те самые Unit Labor Costs (ULC), затраты на рабочую силу для производства единицы товара.
И их снизили (ликвидировали сбережения) через инфляцию, и снизили стоимость труда по отношению к производимым товарам — именно здесь и появился избыточный капитал для инвестиций, а как только подорожала нефть — эквивалент внешнего капитала, так и нагрузка на труд ослабла, и начались «сытые нулевые». Но еще раз:
сытые нулевые начались не просто потому, что подорожала нефть, а потому, что хозяева страны, получив в свои руки то самое «молоко без коровы», снизили уровень эксплуатации труда. А если нефть подешевеет, то начнут они с того, что снова «нажмут на труд».

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
По заветам красных кхмеров (представьте себе!)
Мне могут возразить, что сейчас «нажимать на труд» может быть затруднительно: человеческий ресурс сокращается, безработицы в стране нет, как нет и крестьянской молодежи, которую можно заставить маршировать с лопатами на плечах под обещания светлого будущего, но есть горожане средних лет, которым даже правительству приходится за все платить.
Но макроэкономика отвечает, что «нажимать на труд», т.е. снижать затраты на рабочую силу для производства единицы товара, в городской экономике можно по-разному, РФ-начальство этим успешно занималось в «тучные нулевые», кстати, да так ловко, что кроме макроэкономистов на это и внимания никто не обращал
Самый «рыночный» вариант такого нажима — это ослабление/задержка укрепления реального обменного курса рубля: путем накопления валютных резервов, т.е. долгов стран — торговых партнеров, стерилизованного бюджетным профицитом (да, всех этих «фондов благосостояния». И где эти фонды? Кто помнит, как там они помогли вашему благосостоянию?).
Да говорили-то по поводу фондов совершенно другое. Но одно дело говорить, другое — действовать. Кстати, кто помнит, когда власти в нулевые начали собирать «фонды» — в аккурат тогда, когда валютный эквивалент зарплаты, столичной во всяком случае, начал подбираться к магической сумме в $1000 — и около этой суммы средняя в РФ зарплата с тех пор так и пляшет. Почему?
Потому что, видимо, это и есть ограничитель части валютной выручки, которую власть готова отправить на потребление. Тысяча долларов на 70 миллионов занятых — вот 70 миллиардов долларов, максимум того, что начальство готово отдать людям.
Пусть даже $100 млрд — это всего четверть от экспортной выручки, не больше.
Другой вариант — вы удивитесь — это повышение депозитных ставок (да-да). Дорого? Ну и что, важнее: накопление депозитов означает перенос вашего потребления в будущее, а в будущем этого потребления может и не случиться. Вспомните, что там случилось со вкладами в сберкассах СССР?
Вариант три — сокращение бюджетных расходов, чем власти успешно занимались все десятые годы. Да, то самое «денег нет, но…». Это то же самое сжатие ULC.
Дальше — по мелочи, например, изменение/сокращение/ ассортимента товаров и снижение их качества. Раньше, отработав N рабочих часов, человек мог купить немецкий автомобиль, а теперь, отработав N часов, он покупает китайский автомобиль. (Вообще любые ограничения потребления — это и есть нажим на труд с точки зрения макроэкономики; это значит, ты не можешь распоряжаться результатами своего рабочего времени.)
Всевозможные ограничения в сфере самодеятельных подработок — все эти реестры, учеты, списки «самозанятых» и т.п., это все механизмы ограничения реальных доходов, закрытия возможностей и сокращение числа источников заработка. Опять же на макроуровне это будет означать увеличение объемов свободной рабочей силы:
не дали тебе зарабатывать самому — пойдешь туда, куда будет приказано (да еще и побежишь, расталкивая соседей локтями, чтобы не опоздать).
Но и это еще не все.
«Нажим на труд» может потребовать запуска механизмов принуждения к этому труду, и таким механизмом принуждения может стать «семья» (которая сейчас всячески продвигается). Кто-то должен будет «работать за троих», и эти «трое» заставят его работать так, как это не может сделать ни один надсмотрщик, ни один лагерный бригадир. Собственно, результаты такого «давления семьи на труд» мы уже видим, просто не хотим замечать.
Пятьдесят лет назад красные кхмеры в Камбодже выгнали горожан на рисовые поля, что с точки зрения макроэкономики означало перемещение рабочей силы из сектора с высокой производительностью в сектор с низкой производительностью, и обернулось сокращением реального потребления в целом.
Ну, так сейчас мы наблюдаем по большому счету то же самое: уверенное перемещение городской рабочей силы в низкопроизводительные или вовсе непроизводительные с точки зрения потребительской экономики сектор А. И ничего, кроме бурного восторга получателей выплат/пособий/повышенных зарплат, не наблюдаем.
Но за рост доходов занятых в этих секторах расплачивается все остальное население (а не бюджет, кстати) — расплачивается через необходимость финансировать свое потребление по выросшим ценам.
Если не сокращать свое потребление (высвобождая ресурсы), то людям приходится брать кредиты, увеличивать свою трудовую нагрузку и искать возможности для дополнительного заработка, т.е. увеличивать предложение труда, и на макроуровне снижая те самые затраты на рабочую силу для производства единицы товара (ULC, Unit Labor Costs).
Чего, собственно, начальство от людей и ожидает. Снижение нефтяной выручки оно обязательно попробует компенсировать, сделав так, чтобы люди работали больше, а потребляли меньше. А вот что из этого получится — нам еще предстоит узнать.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68



