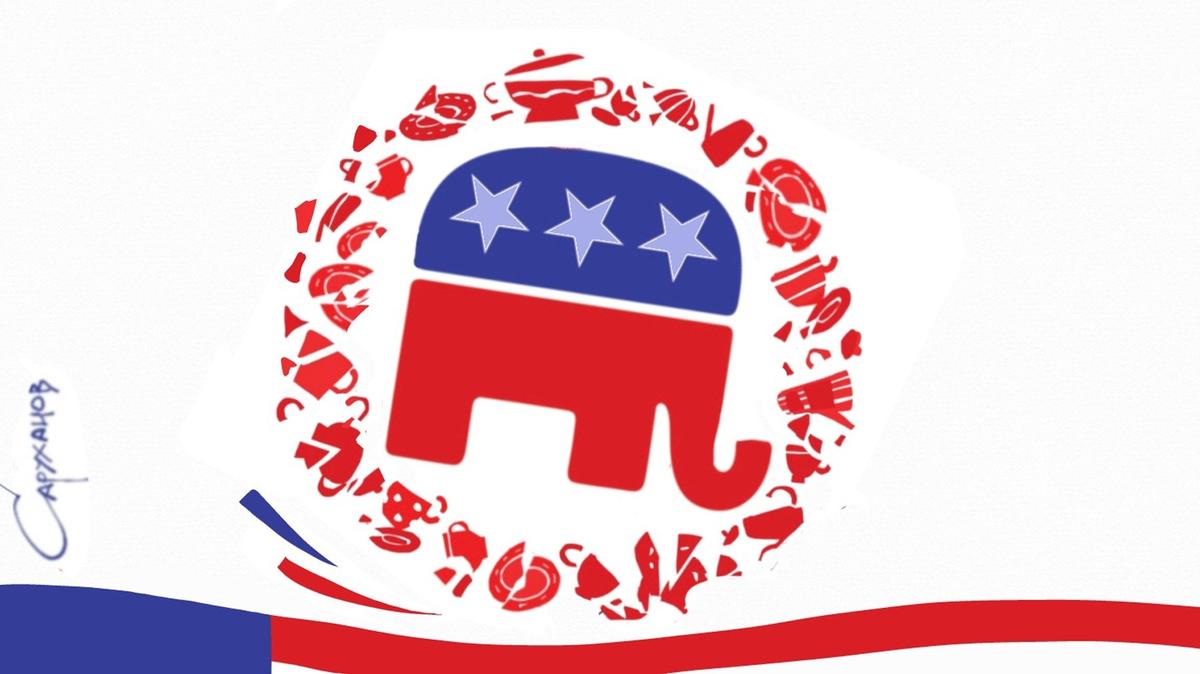18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ВИШНЕВСКИМ БОРИСОМ ЛАЗАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ВИШНЕВСКОГО БОРИСА ЛАЗАРЕВИЧА.
Владимир Пастухов* в «Новой» полагает, что приход Дональда Трампа — это реакция на перекосы и диспропорции «нового либерализма», продвигавшего «признание приоритета прав меньшинств перед правами большинства».
И что мир ждет «масштабная ТрамПутация либеральной демократии», а Трамп, как и Владимир Путин, — «автократы, призванные во власть большинством, чтобы лечить демократию кувалдой авторитаризма».
Перекосы и диспропорции и вправду имели место.
Вот только все, что Пастухов называет «новым либерализмом», никакого отношения к либерализму, на мой взгляд, не имеет.
Как не имеет к нему никакого отношения политика, проводимая в России в 90-е годы прошлого века, при активном участии, в том числе, упоминаемого Пастуховым Анатолия Чубайса с его призывами к «либеральной империи».
Либерализм как он есть
Первой международной декларацией либеральных принципов стал «Оксфордский манифест» 1947 года, где во главу угла были поставлены права человека и общечеловеческие ценности.
«Оксфордский манифест» во многом стал предшественником Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в декабре 1948 года.
Через полвека, в 1997 году, была принята «Либеральная программа на XXI век», где было записано: «Свобода, ответственность, терпимость, социальная справедливость и равенство возможностей — вот главные ценности либерализма».
А еще через 20 лет был принят «Либеральный манифест 2017».
В нем подтверждались принципы либерализма — обеспечения равных прав для всех и защиты прав человека во всем мире, сохранения и защиты гражданских прав и свобод, многопартийности, свободных и честных выборов, обеспечения верховенства закона, терпимости, равенства возможностей, социальной справедливости, свободы торговли, рыночной экономики, экологической безопасности и международной солидарности.
Заявлялось, что «либерализм — это свобода, свобода личности, а также либеральность, терпимость и великодушие» и что либералы выступают за «такие институты и политику, которые открывают максимальные возможности перед всеми людьми в настоящем и будущем».
И что «задачей демократических государств является обеспечение такого положения, когда граждане могут пользоваться предоставленной им свободой для всех в безопасных условиях и когда предусмотрен эффективный механизм сдерживания и наказания тех, кто нарушает права человека и покушается на свободу других граждан»…
Равные права, а не привилегии, квоты и «особые интересы»
Описываемый Пастуховым «новый либерализм», который стремится «добиться максимально возможного равенства между людьми, невзирая на все имеющиеся между ними фактические различия», и продвигает «приоритет прав меньшинств с их особыми, узкими интересами перед правами большинства с его общими и широкими интересами», к настоящему либерализму, представленному в процитированных выше документах, не имеет решительно никакого отношения!
Да, в документах либералов говорится — среди других принципов — о равенстве не только прав, но и возможностей.
Но стремление к равенству возможностей вовсе не означает «равенства между людьми, невзирая на фактические различия». Это, во-первых.
А во-вторых, и это главное, —
либерализм предполагает гарантии равных прав для всех и недопустимость дискриминации, а не предоставление квот, привилегий и признание неких «особых интересов».
Он предполагает, что нет никаких специальных прав для представителей любого меньшинства.
Права человека являются общими и универсальными — и вопрос лишь в том, чтобы одни и те же универсальные права были на практике защищены у каждого человека, независимо от того, меньшинство он или большинство в той или иной конкретной ситуации.
И нет и не может быть для либерала ни приоритета прав меньшинств перед правами большинства, ни формирования у большинства чувства непреходящей вины перед меньшинством.
Либерализм предполагает свободу личности и свободу слова, ограниченную лишь правами других людей, — а не жесткую идеологическую дисциплину, нетерпимость к оппонентам, цензуру и небезызвестную «культуру отмены».
Верховенство закона и закон, единый для всех, — а не коллективную травлю тех, кто без всякого суда заранее назначен виновным.

Фото: JIM WATSON / AFP / East News
В центре либеральной политики — человек
В центр политики либерализм ставит человека, утверждая, что его права носят индивидуальный — а не коллективный характер.
Свободу человека (цитируя «Либеральный манифест 2017») «прожить жизнь так, как он хочет, не ограничивая свободы других людей», его право самому распоряжаться и нести ответственность за свою жизнь.
А все те «перекосы и диспропорции», реакцией на которые стал, в числе прочего, приход Трампа, — никакой не либерализм, сколько ни наклеивай на него этикетку «новый».
Это — левацкая (в ее квалификации я с Пастуховым вполне соглашусь) радикально-агрессивная «повестка», продвигавшаяся в США и ряде стран Европы, ставшая «мейнстримом» во многих влиятельных СМИ и включавшая в себя кроме описанного выше борьбу с «колониализмом» и требования «деколонизации».
Эта «борьба», напомним, началась со сноса и уродования памятников «рабовладельцам» и «ответственным за геноцид» (в число которых попали даже Христофор Колумб, Томас Джефферсон, Уильям Гладстон и Уинстон Черчилль) и продолжилась антисемитскими акциями и поддержкой террористов ХАМАС.
В этой же «повестке» — и «новая этика», в рамках которой общение становится «минным полем», где в любой момент могут появиться «оскорбленные чувства» или «психологические травмы» (при том что «виновник» не намеревался ни оскорблять, ни травмировать), и превращением «оговора в приговор» — когда обвинения, которые могут быть (и бывают) голословными, немедленно превращаются в вынесенный «прогрессивной общественностью» вердикт с последующей травлей и «отменой».
Расставим акценты:
не только либеральная идеология, но и «старая этика» — давно сформировавшиеся в цивилизованном мире правила человеческого сосуществования — предполагает уважение мужчины к женщине и категорическую недопустимость насилия и принуждения в отношениях.
Но не доводит этот принцип до абсурда — фактического приравнивания ухаживания и комплиментов к домогательству и агрессии со всеми вытекающими в рамках «новой этики» негативными последствиями….
Пропасть между либеральным и левацким
Глубокие — и принципиальные — различия между либеральным и левацким Владимир Пастухов просто игнорирует, фактически объединяя две противоположности.
При этом он полностью обходит вопрос о левых силах, которые после распада советского блока и рыночной трансформации Китая оказались на время перед «концом истории», и именно выжимка так называемых «культур-марксизма» и «критической теории» стала для левых новой повесткой и новым этапом в их противостоянии капитализму, либеральной демократии и общечеловеческим ценностям как таковым.
Классы и классовая борьба были заменены на политику идентичности и образуемые ею сообщества-комьюнити, позволяя левым вожакам также говорить от имени всех «угнетенных», по сути узурпируя их голос.
Именно ради этого в общественное пространство снова стали привносить идеи значимости расы, национальности, пола, сексуальной ориентации, религии.

Фото: ITAR-TASS
Вместо ключевой для либералов идеи свободной самоопределяющейся человеческой личности появилась идея о личности, определяемой всеми этими факторами («идентичностями») и обвешанной принадлежностями к соответствующим комьюнити.
Появилась и идея новой, «обратной», якобы справедливой дискриминации, когда тот, кто никогда не был рабовладельцем, пожизненно должен тому, кто никогда не был рабом.
Нет и не может быть ничего более расходящегося с либерализмом.
И тут стоит вспомнить BLM — с погромами магазинов, требованием коленопреклонения потомков «расистов» и «рабовладельцев» как раскаянием за грехи далеких предков и искупления их «вины белого человека» и травлей тех, кто осмеливался публично сказать, что важны все жизни.
Как потомок тех, кто стал в свое время жертвой Холокоста, я еще тогда говорил: мне категорически не требуется, чтобы немцы в знак раскаяния за содеянное их предками вставали на одно колено. Мне требуется, чтобы такое никогда больше не повторилось, — а не пафосные жесты…
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
Где же «недостаток демократии»?
В отличие от Владимира Пастухова, мне постулаты «нового либерализма» совершенно несимпатичны, в отличие от него, я не считаю их правильными, а «вектор перемен» с навязыванием меньшинствами своей воли большинству — неизбежным.
И не считаю, что распространение в США и странах Европы того, что он называет «новым либерализмом» (как уже сказано, никакого отношения к либерализму не имеющего) и который, по его мнению, поддерживался государством, хотя и не разделялся большинством, доказывает, что соответствующие государства не были демократическими.
Характерно, что адепты левацкой идеологии, эти «новые левые», точно так же критикуют парламентскую демократию за недостаток демократизма и малый учет того, что они принимают за мнение масс, как это делает и Владимир Пастухов, и сторонники Дональда Трампа.
В своей аргументации Владимир Пастухов замечательно нелогичен.
Если Трамп и другие ультраправые побеждают с определенными идеями — то это говорит о недостатке демократии на Западе, который якобы не позволял выражать эти идеи прежде.
Но почему тогда этот мнимый недостаток демократии не предотвратил оба избрания Трампа, особенно второе? И что мешало такой недемократичной в глазах вице-президента США Джей Ди Вэнса (как и Владимира Пастухова) Европе не проводить референдум по Брекзиту или запретить участие в выборах «Альтернативе для Германии»?
Да, как в США, так и в Европе в последние годы распространились указанные им левацкие «перекосы» и «диспропорции».
Но назвать государства, поддерживавшие эти «перекосы», недемократическими — это явная натяжка. По такой логике российское государство, возглавляемое Владимиром Путиным, следовало бы назвать демократическим — оно-то подобных «перекосов» себе не позволяло…
Так что с демократией на Западе все в порядке, особенно — в сравнении с Россией. Ее механизмы работают.
Вопрос в другом: в 90-е и нулевые годы поддержка крайне правых была нишевой. Выход Жан-Мари Ле Пена во второй тур президентских выборов во Франции стал сенсацией и вызвал национальную консолидацию против фашизма.
Но потом ситуация изменилась — и изменилось общественное мнение. Это совершенно естественный и постоянно идущий процесс. В 2016 году выиграл Трамп, в 2020-м — Байден, теперь Трамп вернулся, и всякий раз исход борьбы зависел буквально от сотен тысяч, а порой и всего десятков тысяч голосов в нескольких отдельных штатах.
И оттого так странно выглядит идея Пастухова, что если какие-то настроения популярны сейчас, то они были популярны и два-три десятка лет назад, но тогда им мешал проклятый «недостаток демократии»…
Приход Трампа, как уже сказано, во многом связан с раздражением очень многих в США описанной выше левацкой «повесткой».

Дональд Трамп. Фото: Pool / ABACA / Abaca / East News
Тем, что вместо проблем роста цен, занятости, нелегальной миграции, борьбы с наркокартелями и преступностью бесконечно обсуждались проблемы меньшинств, «инклюзивности» и государственного вмешательства в рыночную экономику для борьбы с глобальным потеплением.
Что на рынке труда все больше профессионализм подменялся принудительным «разнообразием» (по требованию государства советы по ее обеспечению были созданы даже в частных корпорациях, не говоря уже о госслужбе).
Что множилось число «угнетенных» и «жертв», требующих немалые компенсации за свои (или предков) страдания за счет общественного пирога, и число тех, кто, требуя к себе эмпатии и толерантности, сам проявлять их не собирался.
Так вот, именно демократичность государства и проявилась в том, что на посту его главы оказался политик, который выступал против этой «повестки», не поддержанной большинством.
Вульгарный «либерализм» вместо современного
Если же говорить о России — возвращаясь к началу статьи, — то в ней в 90-е годы прошлого века тоже внушалось специфическое представление о либерализме (разве что без наклейки «новый»).
Тогда во время «радикальных экономических реформ» за либерализм выдавалась его вульгарная и давно устаревшая версия.
Когда считалось, что либерализм — это свобода от выполнения социальных обязательств, что государство ничего никому не должно, что выживает сильнейший, а слабейший сам виноват — не смог приспособиться.
Напомню, что раскол некогда единых участников демократического движения на «Яблоко» и «Демократический выбор России» (а затем — СПС), случившийся в 1993 году, как раз и был связан с принципиально разным отношением к методам проведения экономических реформ.
Одни заявили, что реформы надо проводить в интересах большинства — другие уверяли, что надо делать ставку на активное меньшинство. Одни полагали, что реформы, приводящие к непрерывному ухудшению жизни людей, недопустимы, — другие считали, что социальная «цена» реформ не имеет значения, и объявляли «люмпенами» и «наглыми нищими» тех, кто требовал повышения зарплат и пенсий. Одни, считая свободу безусловной ценностью, заявляли, что несправедливо устроенное общество не может быть ни свободным, ни стабильным, — в лексиконе иных главной опасностью для «молодого российского капитализма» объявлялось «социальное иждивенчество»…
Принципам современного — социального — либерализма, сочетающего свободу и справедливость, соответствовала именно первая из этих точек зрения. Но в России произошла подмена понятий: либералами стали считать тех, кто исповедовал вторую.
Это точно так же — и надолго — дискредитировало в России слово «либерализм», как отождествление демократии с Борисом Ельциным и его окружением дискредитировало слово «демократия». Хотя речь шла о том, что на самом деле не имело никакого отношения к либерализму — как не имеет к нему отношения «новый либерализм».
Отличать правильное от неправильного
Если обратиться к недавней истории, то можно вспомнить первый за несколько десятилетий на Западе тяжелый экономический кризис 2008 года, разрушивший у многих ощущение, что глобализация, рыночный неолиберализм и мультикультурализм тождественны процветанию. Борьба за оказавшиеся ограниченными финансовые ресурсы в социуме обострилась, и выросла ксенофобия по отношению к потенциальным конкурентам.
Не случайно так много за крайне правых и в США, и во Франции, и в Германии голосуют депрессивные рабочие регионы — там часто не так много мигрантов, и они не столько прямая угроза в глазах местного населения, сколько лишние претенденты на «кусок пирога», которого местным, как они считают, и самим не хватает.
У современного либерализма — особенно в современной России, где он де-факто объявлен враждебной, антигосударственной идеологией, — немало реальных проблем, трудностей и вызовов.
Но не стоит вешать на него незаслуженные ярлыки.
Процитирую то, с чего начинается «Оксфордский манифест»:
«Мы, либералы 19 стран, собравшиеся в Оксфорде во время беспорядка, нищеты, голода и страха, вызванных двумя мировыми войнами; убежденные, что такое состояние мира во многом обусловлено отказом от либеральных принципов; подтверждаем нашу верность этой декларации:
Человек — это, прежде всего, существо, наделенное силой независимых мыслей и действий, а также способностью отличать правильное от неправильного».
Либерализм — это свобода, а не травля несогласных; справедливость, а не привилегии; равные права для всех, а не «особые интересы»; уважение к человеку, а не требования каяться и искупать.
Нынешний кризис — это не кризис либерализма и не кризис демократии, это кризис понятий, деформировавшихся в условиях технологической революции и манипулирования при помощи социальных сетей и алгоритмов.
Либеральная демократия нуждается не в «трампутации», которая вовсе не неизбежна.
Она нуждается в возвращении словам и понятиям их изначального смысла.
Это не только необходимо, но и возможно.
Потому что человеку свойственна — хотя бывают и временные «перекосы» — способность, как процитировано, «отличать правильное от неправильного».
Мнения Соучастников
«И значит ли все это, что в России демократия?»
Читатели «Новой» о статье Владимира Пастухова* «ТрамПутация либеральной демократии»
- «Слишком умно для двух мерзавцев…»
- «По поводу статьи Владимира Пастухова* «ТрамПутация либеральной демократии»: ничего плохого про статью сказать не могу, написана она хорошим языком. Отмечу только, что есть у меня впечатление, что Владимир Борисович при ее написании сильно вдохновлялся книгой исследователя Алана Карлсона «Шведский эксперимент в демографической политике». Как будто бы он написал свою статью в том числе под впечатлением от этой книги. Очень интересно, если это так. И в любом случае книгу советую к прочтению.
Карлсон А. Шведский эксперимент в демографической политике: Гуннар и Альва Мюрдали и межвоенный кризис народонаселения / Алан Карлсон; пер. с англ. Б. Пинскера. М.: ИРИСЭН, Мысль, 2009. — 312 с.».
- «Статьи Пастухова В., так же как и его блог, читаю постоянно, находя у него взвешенные объяснения закономерностей, происходящих в сообществах.
Самая простая приходящая мысль это то, что Америка была, есть и продолжает быть Америкой. Помощь помощью, но прибыль — прежде всего. Если помощь нельзя монетизировать, то можно получить влияние и преимущества, которые потом можно монетизировать и т.д. Итоги Первой мировой сделали Америку богаче. Ничуть не умаляя роль Америки во Второй, после завершения ее страна стала лидером Западного мира. А после падения СССР и развала Восточного блока — признанным мировым лидером. Но не только. Мировым арбитром во многих аспектах. Гуру демократических идей. И то, что сегодня демонстрирует новый президент, укладывается в шаблон. Неважно, что предательство похоже на предательство, сделка должна быть выгодна. А партнера со слабой позицией нужно учитывать в степени его позиции. Но так просто может быть только на первый взгляд.
Мир находится перед входом в процесс экзистенциального выбора. Опять встает вопрос, что лучше: демократия или диктатура. Мир, сформированный правилами итогов Второй мировой, с развитием технологий и ростом значения других новых игроков, перерос эти правила. И второй приход Трампа неслучаен, в отличие от первого. Если первый — случайность, как протест, то второй — запрос на перемены и выбор от безысходности. Потому что нет приемлемых для выбора предложений. Нет их не только у Америки, но и у Европы. И беззубое и ведомое поведение ее лидеров лишь пример.
И то, что произошло в феврале 22-го — отчасти реакция на слабость и высокомерие, проба на зуб не только мирового порядка, но и принципов, к формированию которых цивилизация шла не одно столетие и так дорого за них заплатила. Что будет происходить в мире в период формирования новых правил или обновления старых, неизвестно. Какие союзы будут формироваться? Какая игра будет на Великой шахматной доске? Одни вопросы.
Точно известно одно — скучно не будет, турбулентность высокого уровня. Кто мог предсказать приход к власти маленькой неизвестной партии большевиков, развалившей огромную страну. Кто мог предсказать падение Германии в Первой мировой. Большевики отдали земли Украины и Белоруссии, Германия получала от них помощь, войска снимались с Восточного фронта и перебрасывались на Западный. Обескровленная Франция ждала худшего. Кто бы мог поставить фишки на ее сторону? Но вдруг все лопнуло. Германия проиграла.
Американская струна натянута. Там тоже все не так стабильно, как хотелось бы. И поведение Трампа — реакция на эту нестабильность. Хаотичность и неуверенность — суть одного явления. Неожиданные слова, неожиданные поступки. Решительность не есть взвешенность. А от Америки действительно зависит многое. Европе придется решать вопросы без оглядки на заокеанский одобрямс. Там, где Америка даст слабину, подхватит Китай. А у РФ, как всегда, свой путь. В американское буржуинство не возьмут, как ни гладь. Европа забор сама ставит. А китайские друзья — друзья только до кассы, а там сама, сама». - «Текст В. Пастухова — просто бальзам на израненную душу! Очень умный и по-настоящему глубокий. Давно не баловал себя такими умными текстами. В порядке полемики могу лишь заметить, что после ставшей с очевидностью абсурдной парадигмы равенства теперь с очевидностью встает поиск идеи критериев неравенства. Сам Трамп вряд ли озаботится разработкой таких критериев, он по умолчанию считает таковым критерием силу (военную, экономическую). Но довольно быстро станет ясно, что ведь все это человечество проходило, и эволюция поэтому хорошо известна. Хорошо известны также и многочисленные критерии неравенства, имевшие место в прошлом (имущественные, образовательные, родословные и др.). Думаю, эти критерии и есть «краеугольный камень» почти всех бед человеческих. Но хорошо уже то, что вроде стали понимать всю глубину ужаса идеи равенства (история СССР и многих социальных революций дала прекрасные иллюстрации). И, соответственно, начнется процесс поиска критериев неравенства. Тут есть где разгуляться мысли алчущей…»
- «Не буду петь продолжительные дифирамбы В. Пастухову, отмечу, что его статья «ТрамПутизация» интересна, как всегда, и глубока. И что, вероятно, он лучший философ-политолог нашего времени.
Тем не менее в тексте статьи есть формулировки, которые у меня, по крайней мере, вызывают вопросы. И возможно, Владимир Борисович ответит на них.
В.Б. Пастухов пишет: «Общий смысл остался прежним — истинная демократия противопоставлялась неистинной…
Соответственно, истинной, то есть либеральной, демократией признавалась та, где права меньшинств были защищены особым образом (можно сказать, что им обеспечивалась «инклюзивность»), а не истинной — демократия, в которой доминировало мнение большинства».
Известно, что внутренняя политика в РФ проводится если не в интересах большинства, то по крайней мере с их молчаливого одобрения или безразличного отношения (апатии).
Означает ли это, что в России демократия? В.Б. Пастухов пишет: «Эта политика не пользовалась общественной поддержкой, но поддерживалась государством. А значит, это государство было недемократическим».
Если перевернуть фразу, то получим: «Если политика поддерживается государством и пользуется общественной поддержкой, то это означает, что государство демократическое».
Очевидно, что СВО пользовалась (и до определенной степени пользуется) поддержкой. Это, как говорится, медицинский факт. Но пользуется ли СВО «общественной» поддержкой или все дело в «глубинном народе»? Означает ли это, что РФ это демократическое государство?».
* Внесены властями РФ в реестр «иноагентов»
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68