18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГЕНИСОМ АЛЕКСАНДРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ИЛИ КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ГЕНИСА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Эзопов язык — это не прямой протест, но способ объединения слабых за спиной сильных. Его цель не столько передать скрываемую информацию, сколько объединить людей, продемонстрировать солидарность, незаметно подмигнуть собеседнику, чтобы он почувствовал, что он не один.
Из книги Л. Лосева «Эзопов язык в русской литературе»
1.
Война, которая еще недавно не требовала уточняющих определений, была таким могучим историческим катаклизмом, что могла служить универсальной метафорой для любых, не исключая самых рискованных, идей. На нее все можно было списать, чтобы обмануть цензуру. Не то чтобы та не догадывалась, что, обличая фашизм, автор имеет в виду не только его. Но к ветеранам было труднее придраться. Война обеспечивала им хрупкую защиту, позволяющую сказать больше и смелее, чем другим.
Военная тема поднимала не разрешенные другим авторам моральные проблемы, как это сделал Василь Быков в знаменитой повести «Сотников» (1969). Или снимать кино, в котором не всегда было место подвигу, как в картине Алексея Германа «Проверка на дорогах» (1971), где был незабываемый кадр: советские пленные на барже с названием «Александр Пушкин».
Опыт войны служил хлипкой броней даже в конфликте с вождем. Когда Хрущев на встрече с творческой интеллигенцией в Манеже напал на Эрнста Неизвестного, единственно возможным ответом на ругань были слова скульптора: «Я фронтовик».
Это позволило Андрею Вознесенскому сделать Неизвестного героем стихов, где тот уже в мирное время продолжает войну за свободу — в эзоповом, естественно, пространстве.
…В атаку взвод не поднять,
но сверху в радиосеть:
«В атаке — зовут — твою мать!»
И Эрнст отвечает: «Есть».
Но взводик твой землю ест.
Он доблестно недвижим.
Лейтенант Неизвестный Эрнст
идет
наступать
один!
<…>
Но выше Жизни и Смерти,
пронзающее, как свет,
нас требует что-то третье, —
чем выделен человек.
Уже школьником я понимал, о какой войне идет речь, и знал эти стихи наизусть, о чем даже успел рассказать в Нью-Йорке и автору, и его герою.
2.
Могущество военной метафоры продемонстрировала неудачливая ласточка оттепели — поэма Твардовского «Теркин на том свете». Написанная сразу после смерти Сталина, она показалась властям нестерпимо дерзкой. Стихи запретили, автора наказали, но Теркин уцелел, если так можно выразиться о герое, попавшем в преисподнюю. В следующий раз поэма вынырнула на исходе хрущевской эпохи и произвела фурор.

Обложка поэмы Александра Твардовского «Теркин на том свете». Источник: соцсети
Для начала Твардовский обрушивается на самый популярный и безопасный объект всей советской литературы — бюрократизм. Декада за декадой бюрократы отвечали за все кошмары системы. Как будто война, голод, террор, ГУЛАГ — это еще ничего, ибо хуже всего вечные «Прозаседавшиеся». Больше других досталось тем критикам, что сидели у Твардовского на хвосте и норовили вцепиться в горло.
Этим членам все известно,
Что в романе быть должно
И чему какое место
Наперед отведено.
<…>
В том-то вся и закавыка
И особый наш уклад,
Что от мала до велика
Все у нас руководят.
Запутавшийся в загробных учреждениях, напоминавших коридоры власти еще недоступного Кафки, Теркин теряет ориентацию и скучает по фронту с его недвусмысленной антитезой своих и чужих.
Не понять — где фронт, где тыл.
В окруженье — в сорок первом —
Хоть какой, но выход был.
— Кто в иную пору прибыл,
Тот как хочешь, а по мне —
Был бы только этот выбор, —
Я б остался на войне.
Но постепенно Теркин расходится, и в поле его зрения попадает уже куда более рискованная история. Вместе с Иваном Денисовичем он становится свидетелем и обличителем и сталинских преступлений, и самого Сталина.
Там — рядами по годам
Шли в строю незримом
Колыма и Магадан,
Воркута с Нарымом.
За черту из-за черты,
С разницею малой,
Область вечной мерзлоты
В вечность их списала.
Из-за проволоки той
Белой-поседелой —
С их особою статьей,
Приобщенной к делу…
Наконец, Твардовский в своей отнюдь не божественной комедии поднимается до самого верха (или низа) адской иерархии.
Кто, за что, по воле чьей —
Разберись, наука.
Ни оркестров, ни речей,
Вот уж где — ни звука…
Память, как ты ни горька,
Будь зарубкой на века!
Устроитель всех судеб,
Тою же порою
Он в Кремле при жизни склеп
Сам себе устроил.
Невдомек еще тебе,
Что живыми правит,
Но давно уж сам себе
Памятники ставит.
В конце поэмы — неизбежный хэппи-энд. Теркин возвращается с того света.
В этот мир живых, где ныне
Нашу службу мы несем…
Только герой великой войны может и должен исправить то, что без него тут натворили.

Александр Твардовский. Фото: Владимир Савостьянов / ТАСС
Поэма про кстати ожившего ветерана внезапно понравилась Хрущеву, и ее напечатали в газете «Известия» от 18 августа 1963 года. Ее публикацию вызвался осуществить некий Лесючевский (директор издательства «Советский писатель»).
В 1954 году, когда поэму запретили, он же советовал Твардовскому отнестись к своему детищу, «как Тарас Бульба отнесся к своему изменнику-сыну — убить его».
Но Теркин оказался живуч. И я даже помню тот исторический номер «Известий», потому что взрослые читали газету вслух, выпивая за новый праздник свободы.
В следующем году, однако, Хрущева сняли, ветеранов вернули в партийный строй, и военные метафоры стали тоньше, а эзопов язык изощреннее.
3.
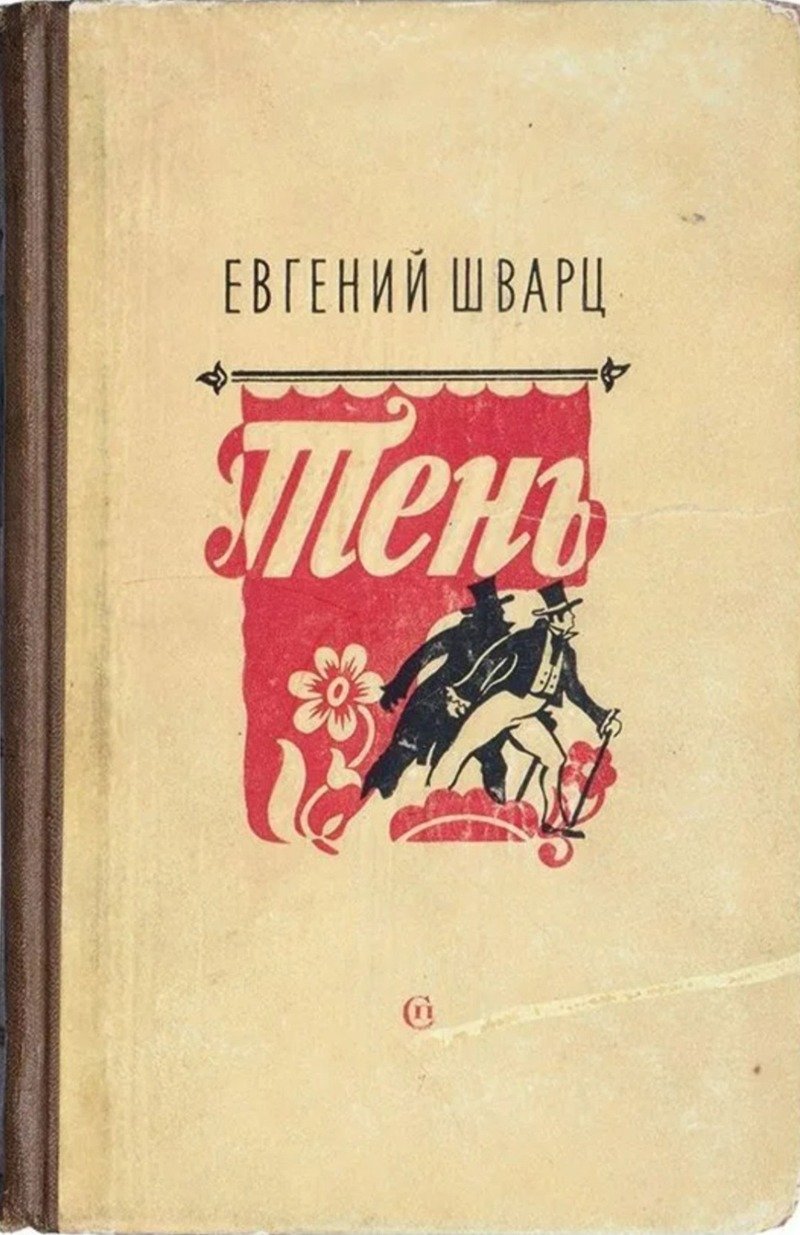
Обложка пьесы Евгения Шварца «Тень». Источник: соцсети
Когда Искандер пожаловался дяде Сандро на то, что его травят литературные опричники, тот посоветовал немедленно дать оправдывающую писателя телеграмму в Кремль: «Глуп, но правительство любит».
Сандро был, конечно, прав, потому что в отношениях с властью лучшая тактика — изображать простака. Не то чтобы цензура не могла разгадать эту любимую национальную хитрость, тем более что к ней прибегали отнюдь не только свободолюбивые литераторы. Но цензуре самой было выгодно тоже притворяться дурой и делать вид, что она не понимает дерзких выходок Эзопа.
Вот так в пьесе Евгения Шварца «Тень» начальник стражи переодевается в женское платье, чтобы подслушать мнения толпы о начальстве, но при этом хитроумно забывает сменить сапоги со шпорами.
«Я нарочно вышел в сапогах со шпорами… Пусть уж лучше узнают меня, а то наслушаешься такого, что потом три ночи не спишь… В сапогах куда спокойнее. Ходишь, позваниваешь шпорами — и слышишь кругом только то, что полагается».
Шедевр подобного обращения с запретным — рассказ Искандера с демонстративно безобидным названием «Летним днем» (1969). Вся его неспешная первая часть погружает читателя в курортную негу: солнце, море, мороженое, шампанское. Знакомый и любимый легкий, но витиеватый слог, полный точных милых и смешных подробностей вроде ныряющих за монетами мальчишек, надутого от важности пенсионера и послушно внимающую ему приезжую даму. Все это создает ощущение уютной нормы, на фоне которой медленно и уверенно разворачивается та экзистенциальная драма, ради которой и написан этот принципиально важный в каноне Искандера рассказ.
Как это водится в русской классике, автор доверяет повествование персонажу-рассказчику — не названному немцу-физику. На первый взгляд он неотличим от других иностранцев. Чтобы читать Достоевского в оригинале, выучил русский, но не до конца, потому что говорит с акцентом и не знает такого незатейливого слова, как «синяк».
Однако в процессе разговора и он, и мы об этом забываем, ибо немец говорит по-русски все лучше и лучше, язык его точен, богат нюансами и передает сложнейшие оттенки.
Мне тут чудится влияние сцены из сенсационной в тот год новинки — «Мастера и Маргариты», где Воланд теряет немецкий акцент, с которым он говорил при первом знакомстве. При этом немец у Искандера тоже рассказывает дьявольски важные вещи.
4.
Собственно, с самого начала монолога мы понимаем, что его рассказ о жизни в фашистской Германии — не совсем о фашистской Германии, что гестапо не совсем гестапо и что переживание немецкого интеллигента чересчур знакомо, чтобы быть экзотическим и заграничным.
Автор, безусловно, рассчитывал на такую реакцию, но правила эзоповой игры позволили ему развернуть на чужой территории диалектику жизни при тоталитарном режиме. Наш физик прекрасно понимает его преступную сущность, но страх и отвращение не исчерпывают сложной эмоциональной картины тех, кто невольно оказался его жертвой.
«Научные работники нашего института жили довольно замкнутой жизнью, стараясь отгородиться, насколько это было возможно, от окружающей жизни. Но отгородиться становилось все трудней».
— Еще и потому, — объясняет немец, — что режим делал виноватыми и тех, кто не признавал его право себя такими назначать.
«Все время было ощущение какой-то неуверенности или даже вины. Это ощущение трудно передать словами, его надо пережить… Оно временами ослабевало, потом опять усиливалось. Но полностью никогда не исчезало… Комплекс государственной неполноценности — вот как я определил бы это состояние».
«Вы очень ясно выразились», — замечает автор, — и мы понимаем, что этот комплекс знаком и его читателям, включая меня.
Как раз тогда, когда я прочел этот рассказ впервые, пришла пора вступать в комсомол, что мне категорически запретил делать мой беспартийный отец.
— В своих, — сказал он, — они стреляют первыми.
В результате я остался вне комсомола — единственным в целом классе и на целом курсе. Отчуждение от коллектива оказалось весьма полезным, но отнюдь не безболезненным.

Фазиль Искандер. Фото: rudn.ru
Герою Искандера пришлось намного хуже. Он попадает в гестапо, где его вербуют в стукачи. Несмотря на смертельный риск, он отказывается от этой роли по одной-единственной причине. Ему мешает «то, что они называют интеллигентским предрассудком, — обыкновенная человеческая порядочность».
Вот тут, в самом зените, рассказ переходит в стадию последних вопросов перед лицом абсолютного зла.
«Как ни страшно, думал я, погибнуть от бомбежки, все-таки неизмеримо страшней погибнуть от руки гестапо. И дело не в пытках. В этом есть что-то мистическое. Это так же страшно, как быть задушенным привидением».
Что же делать, когда делать нечего?
«История не предоставила нашему поколению права выбора, и требовать от нас большего, чем обыкновенной порядочности, было бы не реалистично».
Защищая свой выбор, исключающий героизм, слишком много требующий от личности, немец предлагает вариант протеста как вклада в будущее.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
«То, что я называю порядочностью, приобретало бы еще больший смысл как средство сохранить нравственные мускулы до более или менее подходящего исторического момента».
Оставив нас рассуждать, насколько важен для истории «ресурс порядочности», Искандер, как и положено в его Абхазии, завершает рассказ тостом, к сожалению, не слишком удачным.
«Выпьем, чтоб этого не повторилось, — сказал я, воспользовавшись неожиданной паузой.
Мы выпили. Шампанское было уже теплым, и тост мой мне самому показался неубедительным».
5.
Бродский так горячо интересовался первыми плодами перестройки, что не знал, как назвать получающуюся в ее результате страну.
— Давайте именовать ее Штирлиц, — сказал поэт.
Я сам это от него слышал, что не умаляет моего удивления уже потому, что мне трудно представить Бродского за просмотром «17 мгновений весны». Но если он их и не смотрел, то уже этим кардинально отличался от всех остальных русскоязычных зрителей. Снятый в 1973 году сериал был самым ярким продуктом массовой культуры за всю угрюмую эпоху застоя. Вместе с фигурным катанием и хоккеем телевизор этим сериалом отрабатывал свое место в каждом советском доме.

Иосиф Бродский. Фото: litcult.ru
Фантастическая популярность Штирлица, превратившая его в вечного фольклорного персонажа, пережила слом системы и не может не вызывать удивления. Во всяком случае, у меня, когда полвека спустя я взялся пересматривать сериал.
Если судить по началу, то это — поздняя дань оттепели на манер Хуциева. Музыкальный пролог в три с половиной минуты: весна, еще голый лес, задумчивое лицо Тихонова и косяк диких гусей, летящих на восток, на родину, куда главному герою пути нет.
В сущности, это — эмигрантский сюжет. Максим Максимович Исаев вынужденно, но добровольно живет на Западе и чувствует себя там уверенно. Он свой в Европе. Уютный пригородный дом, милый кабачок с крахмальными салфетками, остатки буржуазной роскоши, все еще не тронутой войной.
Но главное, конечно, сам Штирлиц. Этот образцовый герой русской литературы. Эмоционально ранимый интеллигент с мягкими манерами. Не поднимая голоса, он умеет убеждать в своей правоте и тех, кто с ним никак не хочет согласиться. Гибрид лучших чеховских персонажей с примесью Достоевского (немного Мышкина, но и не без великого инквизитора) и Толстого, как помнят все, кто видел Тихонова в роли Андрея Болконского. Помимо классиков в нем проступают и более поздние черты.
Штирлиц — в тайной оппозиции к властям. Он им служит, но понарошку, как все мы в эти мутные годы.
Создав идеальный положительный образ, которого вечно не хватало советской культуре, авторы заставили нас забыть о единственном недостатке любимого миллионами героя: Штирлиц — штандартенфюрер СС.
6.
На протяжении всех 12 серий нам не объяснили, что сделал Штирлиц такого, чтобы дорасти до звания полковника. Другим было бы страшно это представить, но сверхъестественное обаяние Тихонова, играющего гуманиста из СС, не оставляет шанса об этом задуматься.
Взамен подробностей служебной карьеры нам представляют служебную характеристику, где высоко оценивается и нордический характер, и верность фюреру, и безжалостность к врагам режима, и отсутствие порочащих связей.
Другими словами, он и тут отличник — идеальный сотрудник секретных служб, вроде того, о ком писал Маяковский.
Юноше, обдумывающему житье,
решающему делать бы жизнь с кого,
скажу не задумываясь,
делай ее с товарища Дзержинского…
Противоречивость образа Штирлица заключается в том, что он, якобы работая на фашистов, апеллирует к вполне универсальной тоталитарной логике.
— Патриоты-государственники, — говорит Штирлиц доброму, но беспочвенному пацифисту пастору Шлагу, — знают, чего хочет народ, и эта правда стоит любых жертв.
Особенно в тот кризисный период, когда война за Германию столкнула — на что в фильме с провидческим чутьем указывает сам Гитлер — две непримиримые идеологические системы: демократический Запад и коммунистическую Россию.

Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»
Конечно, зритель знает, что Штирлиц только притворяется нацистом, что он овца в волчьей шкуре, что он верен своей жене и родине, куда без него улетели гуси. Но все это не отменяет центральной условности сериала.
Рыцарь разведки, Штирлиц — герой без страха и упрека, обладающий неслыханными талантами, вроде искусства писать левой рукой по-французски, мог проявить себя только за границей.
Штирлиц подарил своим поклонникам позитивный образ чекиста, востребованный в очень разных слоях общества, включая самые неожиданные.
В той самой беседе, где Бродский предлагал называть только что освобожденную от коммунистов Россию Штирлицем, он сказал нечто еще более диковинное.
— Главное, — разошелся классик, — нельзя упустить шанс использовать секретную полицию. До сих пор она защищала государство от личности. Теперь следует направить грандиозные материальные и людские ресурсы КГБ, или как там он теперь называется, на защиту личности от государства.
— Но ведь КГБ и есть государство, — рвалось из меня, но я промолчал, завороженный размахом мысли, граничащей, как мне и до сих пор кажется, с безумием.
Тем не менее «скромное», как каннибализм у Свифта, предложение Бродского не оставляет меня в покое, ибо в нем различима та подспудная мысль, что объясняет тотальную реанимацию слова и дела чекистов. Ведь они живы не только на Лубянке, но и в общественном сознании, где представляют силу могучую, опасную и амбивалентную — словно атомная энергия.
Возможно, именно это и имел в виду Бродский, считая необходимым сменить, как Штирлиц, знаки, чтобы чекисты стали «той силой, что вечно хочет зла, но совершает благо».
7.
Ранний рассказ Виктора Пелевина «Оружие возмездия» (1990) возвращает войну туда, откуда она пришла — в фашистскую Германию, которая часто служит автору полигоном для его игр с тоталитарной мифологией.

Обложка рассказа Виктора Пелевина «Оружие возмездия». Источник: соцсети
Действие разворачивается там же и тогда же, что и в «17 мгновениях весны». В конце начисто проигранной войны — последняя надежда нацистов: таинственное оружие возмездия. Оно настолько секретно, что говорить о нем можно только на магическом языке северных мифов: «В вечерней радиопередаче сообщалось, что «огнеглазые Валькирии рейха вот-вот обрушат на агрессора свое священное безумие», ибо «меч Зигфрида уже занесен над потомками азиатских орд».
В пандан этому наречию — язык Сталина, который, отвечая американским союзникам, прибегает к блатному заговору, обладающему, как подсказывает автор, не меньшей мифотворческой силой, чем сбежавшие от Вагнера конструкции тевтонского эпоса.
«Сталин добавил, что, как считает советская сторона, если вместе прихват рисовали, то потом на вздержку брать в натуре западло, и что, когда он пыхтел на туруханской конторе, таких хавырок брали под красный галстук и что он сам бы их чикнул, да неохота перо мокрить».
Природа оружия возмездия настолько расплывчата, что его существование представляется то призрачным, то нелепым, а то и просто невозможным. Но тут вступает генеральная идея всего Пелевина. Психические явления меняют реальность уже оттого, что в них верит достаточное число убежденных мифом сторонников — или запуганных им его жертв.
У этой не слишком убедительной, но плодотворной для творчества концепции есть предшествующие Пелевину источники. Например, небольшая книга Юнга о летающих тарелках (1959), где ученый настаивает на реальном существовании НЛО как материализации страхов человечества в разгар холодной войны.
«В угрожающей ситуации сегодняшнего мира, когда люди начинают понимать, что все поставлено на карту, создающая проекции фантазия взлетает за пределы царства земных организаций и сил в небеса, в межзвездное пространство».
Для Пелевина представление о преобразовании психических явлений в артефакты того мира, которые мы, но не он, считаем реальными, — не только главный художественный прием, но и неоспоримая опирающаяся на буддизм истина. Она позволяет объяснить механизм процесса, в результате которого самые бредовые конспирологические теории наводят морок — воплощаются в жизнь и уродуют ее.
«Так, заговор, приписываемый троцкистско-зиновьевскому блоку, чего не отрицали даже его участники, был настолько же реален, насколько реальны были Магнитка и Соловки, и таковым его делала общая убежденность в его существовании. В конце концов, когда множество людей верят в реальность некоего объекта (или процесса), он начинает себя проявлять: в монастыре происходят религиозные чудеса, в обществе разгорается классовая борьба, в африканских деревнях в назначенный срок умирают проклятые колдуном бедняги».
Именно это и произошло с фашистским оружием возмездия, вера в которое сумела произвести его на свет, чтобы отомстить победителям.
— Вся наша жизнь, — утверждает Пелевин, — отравлена несуществующим, но бесперебойно действующим средством массового поражения.
И чтобы в этом убедиться, достаточно последовать совету автора в финале его рассказа.
«Осталось сказать несколько слов о результатах применения оружия возмездия против СССР. Впрочем, можно обойтись и без слов, тем более что они горьки и не новы. Пусть любопытный сам поставит небольшой опыт. Например, такой: пусть он встанет рано утром, подойдет на цыпочках к окну и, осторожно отведя штору, выглянет наружу…»
Нью-Йорк, ноябрь 2024
Этот материал вышел в третьем номере «Новая газета. Журнал». Купить его можно в онлайн-магазине наших партнеров.
* Внесен властями РФ в реестр «иноагентов».
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68




