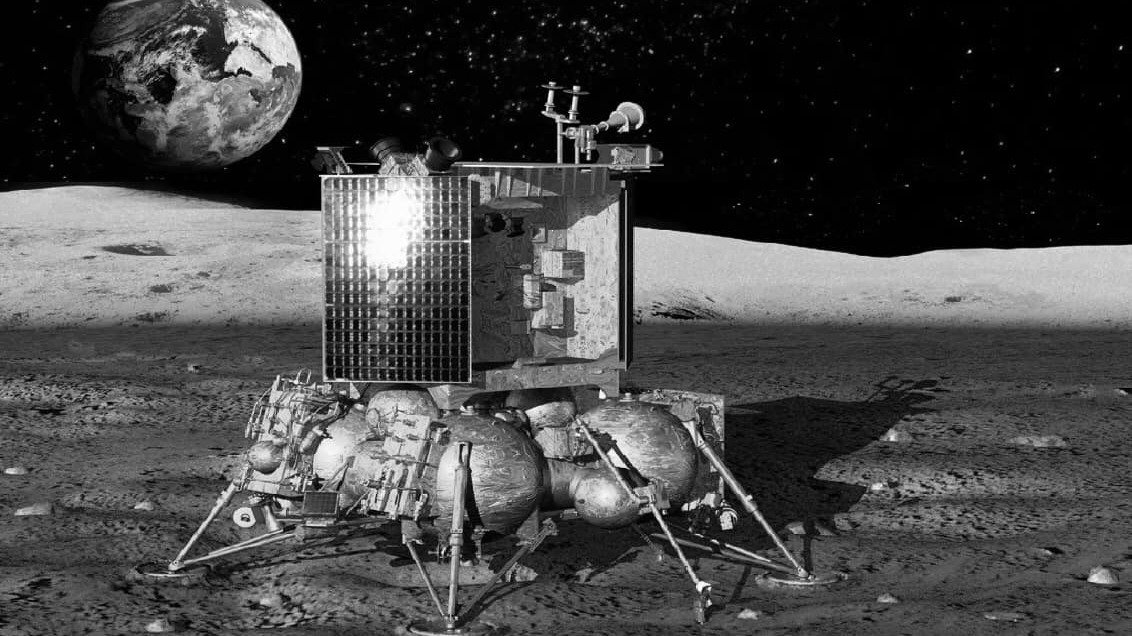- Тезисы о «деколонизации» и «суверенной науке»
- Давление на социальные науки и российский «театр научных действий»
- Евроцентричность науки и российская бедность
Около года назад в риторике российских руководителей, кроме привычных слов о многополярности и общей несправедливости политического мироустройства, появились «антиколониальные аргументы» и рассуждения о том, что Россия должна возглавить мировое «антиколониальное движение».
Розыгрыш карты «антиколониализма» удивил тогда многих, поскольку антиколониальный дискурс слабо сочетается с тем, что звучит из сердца империи. Теперь становится очевидным, что подобные нарративы все чаще будут использоваться для обоснования необходимости разрыва всяческих отношений с Западом, в том числе в сфере науки и образования.
Эти речи вызвали тогда удивление, хотя в них действительно можно проследить несколько номинальных параллелей с дискурсом критики евроцентризма, зависимости от Запада и разнообразия. Конечно, установить схожесть декларативных заявлений и некоторых теоретических концептов вовсе не значит, что они действительно реализуются, когда-либо планировались к претворению в жизнь или вообще приведут когда-либо к хоть сколько-нибудь осязаемому результату.
Антиколониальные и деколониальные идеи традиционно связываются в первую очередь с пространством социальных наук. Параллельно политическому дискурсу сама социальная наука в России сталкивается с серьезными вызовами, свалившимся на нее после известных событий.
Помимо уже традиционных проблем, связанных с давлением государства, появляются сложности с коммуникацией и работой с зарубежными коллегами, а множество западных научных фондов, финансировавших ученых, покинуло страну.
Общая ориентация смещается в сторону локально-национальных сюжетов и стремления установить собственный, не навязанный извне независимый «театр научных действий»: иметь свою, «суверенную» науку, реализуемую без ориентации на западный образец. Существует соблазн в подобной «суверенизации» усмотреть ту самую мечту многих университетских интеллектуалов о науке, свободной от западных способов производства знания и структурирования работы с ним. Люди, имеющие власть над принятием решений в этих сферах, теперь все чаще используют подобные ходы самостоятельно для обоснования необходимости очередных нововведений. В таком контексте несколько относительно новых «антиколониальных» сюжетов в речах власть имущих заставляют более подробно посмотреть на перспективу «суверенизации» (социальной) науки и попыток ее рецепции в российском контексте.
Западноцентричность науки и образования
Идеи о том, что наука — это глубоко евроцентричное предприятие, занимают умы интеллектуалов уже не один десяток лет. Мечты об освобождении от западных способов производства знания и администрирования науки повсеместно присутствуют в дискуссии о научной деколонизации. При этом изначально подобные идеи находят свое начало совсем не в ведущих западных университетах, а в интеллектуальном пространстве глобального Юга.
Они появляются в период интенсификации освобождения южных стран от колониального влияния европейских метрополий. В опустевшем от колонизаторов в пробковых шлемах пространстве университетских аудиторий возникла необходимость создать собственное, не навязанное извне самоописание со своей собственной мифологией.

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ
Подобный проект чаще всего связан с критикой евроцентричности и гегемонии североатлантических государств, постулированием наличия уникальных контекстов и ценностей, которые не может описывать западная социальная наука в своих терминах, и как следствие — желанием иметь более независимые способы работы со знанием и образованием. Такие идеи действительно изначально локализовались в странах, которые испытали на себе самые тяжелые годы колониальной экспансии европейских держав. Поэтому совершенно неудивительно, что идеи деколонизации и автономного производства знания появляются именно там.
Сами «южане» приложили огромное количество усилий для того, что привлечь внимание к подобным сюжетам. При этом как бы они не старались освещать проблемы глобального Юга, академическая иерархия власти, сконцентрированная в руках североатлантических государств, не позволяла в полной мере заняться должной проработкой деколониальных аргументов в производстве знания. До определенного момента эти идеи не попадали в пространство широких дискуссий западного мира. Это вполне объяснимо: зачем на условном Западе обсуждать положение дел, в котором он является непререкаемым авторитетом, и придавать такое же значение локальным идеям, которое придают ученые глобального Юга?
Многое меняется в конце 1980-х, на протяжение всех 1990-х и уже в XXI веке, когда такой проект в различных вариациях стал занимать все больше пространства в научных дискуссиях. Благодаря «южанам», которые начали сами постепенно занимать академические позиции в элитных западных университетах и публиковать работы, воспроизводящие южную повестку, связанную с академической зависимостью, евроцентризмом, колониализмом и изучением субалтернов — разного рода угнетенных групп, — внимания к подобным вопросам стало значительно больше.
Кроме того, такие сюжеты постепенно становятся предметом поддержки ряда ученых глобального Севера, обладавших более серьезным институциональным влиянием. Это вовсе не значит, что ученые глобального Юга не хотели обеспечить свою собственную повестку широким влиянием. Такое положение дел лишь хорошо демонстрирует неравное распределение научного ресурса в дихотомии Север — Юг. Поэтому именно люди, наделенные научной властью, начинают все активнее привлекать внимание к не-западному миру. С этого момента идеи деколониальной экспансии внутрь стен университетов занимают существенное место в пространстве в первую очередь социальных наук, в частности социологии.
Другое знание
Двигаясь по исторической прямой к делам современности, можно обнаружить, что теоретики, еще недавно стремившиеся привлечь внимание к идеям, пришедшим с глобального Юга, теперь пытаются изменить правила научной игры. Не только пересмотреть историю социальных наук в сторону большей инклюзивности, но и в целом переиначить само понимание того, что мы считаем наукой, вдохновленной западным Просвещением, в ее текущей версии. С этого момента заявляются права не только на особое внимание к проблемам «южан», но и на некоторую научную, ценностную и административную независимость от глобального Севера.
Теперь не просто стремятся говорить о признании состояния неоколониального закрепощения в сфере производства знания, но и пытаются переосмыслить те механизмы, которые воспроизводят такое положение дел. В первую очередь, знание куется в стенах университетов, в учебных занятиях, внутри учебных программ — куррикулумов. Поэтому уделяется особое внимание тому, что и как преподается, должной степени присутствия ученых из незападного мира и вообще разного рода групп, так или иначе находящихся в состоянии подчинения: темнокожих авторов, женщин, коренного населения и других групп с учетом локально-национальных контекстов той или иной страны.
Университетские курсы — меньшая из доступных трансформаций — подвергаются пересмотру в пользу большей инклюзивности для самых разных ученых.
Учебный канон постепенно движется в сторону разнообразия, порой уделяя большое внимание локальным авторам, важности их идей для того места, где преподается предмет, и в целом общей логике, обличающей евроцентризм.
И хотя достижение простого разнообразия традиционно считается слабой позицией в разговоре о том, как университетский курс должен помочь «понять Другого», тенденция прослеживается вполне однозначная.
Чуть более радикальные проекты предлагают посмотреть на забытые формы традиционного образования и науки в разных странах как задавленные западной машиной стандартизированных практик в этих областях с призывом обратить внимание на возможные пути их возрождения. Следующий шаг — деколонизация самих структур: университета, способов обучения, моделей образования и администрирования науки, которые были навязаны Западом (Севером) в неравной колониальной борьбе — в том числе в академии. Для того чтобы подобные шаги предпринять, следует для начала нормализовать нарратив о провинциализации западного мира, поставив его на одну полку с другими модерностями. Здесь мы и обратимся к российской версии подобных процессов и попыткам освободиться от академической зависимости от Запада в российском контексте.
«Бедная наука»
В 1991 году распадается Советский Союз. Новым странам предстоит непростой путь на ниве выстраивания и администрирования научной деятельности. Некоторые сразу же избирают путь оформления образования и науки по более-менее западным образцам, но большинство предпочитает внести лишь небольшие изменения там, где это возможно. При этом на фоне общей неразберихи и отсутствия должного понимания процедур оценки качества научных работ в России 90-х наблюдался бум покупки диссертационных исследований и научных степеней, что обвалило престиж профессии до минимума.
Подобное положение дел можно было обнаружить не только в России, но и в странах бывшего Варшавского договора, которые оказались в подвешенном маргинализированном состоянии между Севером и Югом — там, что позднее Мартин Мюллер назовет уже «глобальным Востоком», пришедшим, по его мнению, на смену понятию «постсоциализм».
Как отмечает автор, «ученые оказались в ситуации, в которой радикально изменилось само представление о том, что такое хороший исследователь. Многие, надеясь выжить, были вынуждены оставить академическую карьеру и свою родину. Оставшимся пришлось (а некоторым приходится и сейчас) работать на стороне. Эта проблема особенно актуальна для гуманитарных дисциплин и социальных наук — их часто упрекают в малой практической ценности».
Российская социальная наука в 1990-е, по мнению Александра Филиппова, пережила «бесславное десятилетие»: «Мы имели возможность наблюдать коллективную деградацию интеллектуалов (включая социологов), сменивших привычную фронду (в лучшем случае) по отношению к старому режиму на идеологическое обеспечение нового порядка или явную симпатию к нему и опомнившихся только тогда, когда этому последнему стала не нужна от них даже такая малость».
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
Михаил Соколов, изучая пространство отечественных социальных наук в 1990-х, использует понятие «бедной науки». Такая наука «развивается за счет стремления ученых заработать на кусок хлеба» и «неизбежно будет страдать от перманентного дефицита внимания и от крайне неэффективного его распределения». Соколов отмечает, что ее представители «будут включаться в «экономику внимания» лишь постольку, поскольку это включение способно повлиять на их немедленное финансовое вознаграждение». Такое описание является очень точной характеристикой происходивших тогда процессов.
Академическая зависимость от Запада и вестернизация
Несмотря на общий не самый выгодный финансовый фон, именно в 90-е в российские социальные науки начали приходить деньги западных фондов из того самого северного мира. Главным мем-продуктом той эпохи можно смело считать Фонд Сороса, сегодня несправедливо являющийся собирательным образом, который олицетворяет финансирование нечестных, ангажированных исследований, подрывающих основы российского государства.
Другим важным инструментом поиска денежного вознаграждения мог стать Фонд Макартуров, который ставил своей целью «поддержание независимых исследований и творческих подходов к решению актуальных общественных проблем». К 2015 году фонд потратил более 173 миллионов долларов на «поддержку высшего образования и защиту прав человека в России, а также на борьбу с распространением ядерного оружия». Обе эти структуры, никогда не финансировавшиеся американским правительством, попали в стоп-лист в 2015 году и фактически перестали работать в России.

Прием по случаю 15-летия деятельности фонда Сороса в России. Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ
Прямое финансирование государственным департаментом США предусмотрено, например, в программе Фулбрайта, которую часто рассматривают как американский инструмент мягкой политической силы. Сайт посольства США в России описывает программу как «возможность улучшить взаимопонимание между Соединенными Штатами Америки и народами других стран». Под этим брендом спрятано несколько программ, самая известная из которых дает своим стипендиатам право бесплатно получить магистерскую степень в одном из американских вузов с полным финансовым обеспечением: от стипендии до расходов на билеты. Единственное условие — после программы необходимо вернуться в Россию на два года. И хотя стипендиаты находят возможности обойти это требование, большинство все же возвращается домой.
Кроме того, в Россию пришло большое количество фондов немецких политических партий: имени Генриха Белля, Розы Люксембург, Конрада Аденауэра, Фридриха Эберта и другие, которые, помимо прочего, финансировали исследования, культурные мероприятия и предоставляли стипендии для студентов. Долгое время стипендиальной поддержкой также занимался Oxford Russia Fund, который не только финансировал исследования, но и выдавал стипендии талантливым студентам ряда российских вузов.
В целом формат поддержки исследований из частных средств и зарубежных фондов, присутствующий в западной академии, постепенно становился все более нормальным положением дел в России, частично отвязывая российских ученых и студентов от порой единственно возможной поддержки государством.
Благодаря такому финансированию российские ученые и студенты не только получали возможность проводить исследования внутри страны и получать образование на Западе, но и могли организовывать множество локальных проектов и инициатив.
Конечно, нельзя считать, что приход подобных фондов является ключевым в вопросе той самой пресловутой вестернизации. Более важным становится общая постепенная интеграция в единое европейское пространство образования. Российское государство сделало несколько серьезных шагов в сторону евроцентричных институциональных структур в этой области. Так, Россия стала полноправным участником Болонского процесса в 2003 году вместе с другими странами, которые теперь участвуют в переговорах о расширении Евросоюза, — например, с Сербией, Албанией и Боснией и Герцеговиной. Это произошло также на два года раньше, чем это сделали такие свежеиспеченные кандидаты в ЕС из постсоветского пространства, как Молдова и Украина.
Впоследствии, в 2010 году, Россия стала частью единой европейской зоны образования — European Higher Education Area (EHEA). Это в итоге позволило адаптировать и другие элементы, связанные с образовательной интеграцией, а именно: European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) — единую систему кредитов (часов), которые были затрачены на курс; Qualifications Frameworks in the European Higher Education Area (QF-EHEA) — единые стандарты учета разных уровней образования; the Diploma Supplement (DS) — единое приложение к диплому на английском языке; the European Standards, Guidelines for Quality Assurance of Higher Education (ESG) — единые стандарты оценивания высшего образования и другие. Все эти элементы способствовали облегчению признания дипломов, оценки полученных уровней образования, позволяли взаимно учитывать прослушанные в разных странах курсы, а также реализовывать программы образовательных обменов. Такие шаги позволили России постепенно отказаться от пятилетнего специалитета (пусть и не везде) в пользу системы бакалавриат — магистратура, а уже в 2013 году сделать аспирантуру третью ступенью образования.

СПбГУ. Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
При этом уже даже к 2003 году некоторые подобные практики реализовывались в России. Возможность получить степень магистра в НИУ ВШЭ, который в целом изначально мыслился как магистерский университет, присутствовала уже в 1990-х. Со схожей ориентацией открылись Европейский университет в Санкт-Петербурге (1994) и Шанинка (1995), ставившие во главу угла образование по западным образцам. Был открыт факультет свободных искусств в СПбГУ (1999), где присутствовали программы Liberal Arts и до недавнего времени была возможность сотрудничества по разным основаниям с американским Bard College. Постепенно нормализуется идея о вариативной части образования в университете с выбором курсов, а в последнее время велась даже речь о возможности определения конкретной специальности лишь после второго курса бакалавриата.
В конечном итоге даже российских администраторов от науки и образования заинтересовали возможности стандартизации по общемировым (читай — западным) образцам и признание ее успехов со стороны западных коллег. В 2012 году была запущена программа 5-100, ставившая целью поднять пять российских университетов в топ-100 хотя бы одного крупного университетского рейтинга (THE, QS, ARWU). И хотя изначальный срок программы был продлен, к 2020 году целей достичь так и не удалось, а на смену программе пришел Приоритет-2030 с менее глобальными целями.
Важно понимать, что это был не односторонний процесс. Западные коллеги не только активно признавали право России на подобные процессы, но и высоко оценивали успехи коллег на этом поприще. Помимо того, что это было заметно в области прямого сотрудничества по проблемам интеграции, это проявлялось и в более формальных вопросах. В тех же международных рейтингах ситуация в предметных областях обстояла значительно лучше. Например, в QS в области социологии в 2021 и 2022 годах в топ-250 присутствовало три и четыре российских университета соответственно, а НИУ ВШЭ удалось занять 50-ю и 72-ю строчку в мире. Даже несмотря на то что подобные рейтинги подвержены лоббистскому влиянию, это все равно весьма значимое признание в эпоху неолиберального администрирования университетов, не говоря уже о более значительных успехах технических и естественно-научных дисциплин в этой сфере.

НИУ ВШЭ.Фото: Артем Геодакян / ТАСС
С точки зрения оценки публикационной активности ученых начали широко использовать зарубежные системы индексирования научных публикаций Scopus и Web of Science. Компания Clarivate, ответственная за работу WoS, даже создала на своей платформе Russian Scientific Citation Index (RSCI) и постоянно его актуализировала вплоть до 2022 года. Последний такой список включал более 900 российских научных изданий.
Публикация научных статей в этих базах стала частью не только оценки качества научных работ и диссертационных исследований, но и рутинного неолиберального давления на преподавателей в рамках работы с так называемыми эффективными контрактами. Кроме того, их часто так или иначе используют для системы поощрений тех, чья публикационная активность повышает видимость, престиж вуза и его репутацию как научно-исследовательской организации.
При этом стремление публиковаться в таких изданиях косвенно приводит к концентрации все большей власти в руках больших западных публикационных домов (например, Springer, Taylor & Francis).
По задумке такая система оценки работы российских ученых должна была повысить качество публикуемых статей, но на деле порой приводит к учащающимся попыткам обойти подобные требования.
В итоге даже этот короткий список аспектов (финансирование, интеграция, оценка публикационной активности) институциональной вестернизации науки и образования демонстрирует, что Россия долгое время встраивалась в единое пространство европейского образования, а наука становилась все больше подвержена стандартизации по западным образцам. К этому было приложено большое количество усилий лоббистов, было проведено несколько реформ и заключено множество самых разнообразных договоров о партнерстве и сотрудничестве, даже несмотря на все те политические проблемы, которые присутствовали на этом пути.
Как отмечает Вячеслав Морозов, Россия действительно «европеизировалась в течение двух десятилетий (и в некоторых отношениях продолжает это делать), но появление ее европейской идентичности постоянно откладывалось имперским наследием». Эта цитата из книги 2015 года хорошо демонстрирует тот эффект, который подобное наследие оказывает на российскую науку и образование в 2023 году.
***
Обозначив некоторые институциональные трансформации, случившиеся в стране после 1991 года, первая часть цикла заканчивается. Вторая часть будет посвящена сюжетам, связанным с суверенизацией науки на примере проектов, понятий и идей, которые приходят в такие дискуссии из пространства социальных наук.
В следующей части речь пойдет о коренной, национальной и суверенной социологии, а также о российских попытках их прочтения. Парадоксально, но забытые идеи некоторых одиозных российских социологов из нулевых и начала десятых не только удивительным образом номинально близко соотносятся с требованием провинциализировать западный научный мир, но и попадают в политический и научный тренд десятилетие спустя.
Иван Кисленко, социолог
Продолжение следует
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68