Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса 15-й буквой греческого алфавита — омикрон. Две предыдущие буквы, ню и кси, пропустили. Первую — чтобы штамм на слух не путали со словом «new», этот коронавирус уже два года известен как «новый». Вторую — из политкорректности: чтобы вирус не ассоциировался, упаси боже, с Китаем, тем более — с его лидером, чье имя в транскрипции латиницей пишется точно так же.
Чего ждать от омикрона — объясняет генетик из института в Солт-Лейк-Сити (США) Дмитрий Прусс.

Фото: EPA
— Чем омикрон отличается от других известных штаммов коронавируса?
— Не все эти штаммы одинаково опасны. Из тех, которые ВОЗ сочла наиболее опасными, это пятый. Буквы присваивали и вариантам, вызывавшим озабоченность, и вариантам, вызывавшим только интерес. Это классификация на бюрократическом языке. Озабоченность — более высокая категория, и таких пока всего пять.
— Из предыдущих четырех опасных особенно часто упоминают дельту. А еще какие?
— Альфа, бета и гамма. Всем остальным, начиная с эпсилон и вплоть до мю, названия присваивали на более ранних стадиях изучения, классифицируя их как просто интересующие и менее рискованные. Эти штаммы так и не продвинулись настолько, чтобы вызвать озабоченность.
— Омикрон тоже ведь пока находится на довольно ранней стадии изучения. Известно, что он содержит 32 мутации в S-белке. Почему это вызывает озабоченность?
— В истории этой пандемии было много вариантов вируса, которые имели много мутаций и способны были ускользать от иммунной системы. И было много вариантов, способных к быстрому росту, к быстрому распространению в популяции. Но эти две угрозы до сих пор не соединялись вместе. То есть были варианты, способные выживать, несмотря на иммунную атаку, но не способные размножаться. Или такие, которые быстро размножались, но иммунная система с ними неплохо, как выяснялось, справляется. А у этого варианта есть признаки обеих неприятных способностей.
— Он и очень заразный, и иммунитет его не берет? Вакцины, иначе говоря, станут бесполезны?
— Нет, вакцины бесполезны не станут. Уже известно, что и прививка, и предыдущее заболевание помогают людям избежать тяжелого течения болезни.
— Независимо от штамма?
— Я говорю сейчас конкретно об этом штамме — омикроне, хотя то же самое известно и о других штаммах. Мы хорошо знаем, что дельта в России с мая этого года не изменилась ни разу, это все тот же 122-й ее подвид, который колбасит Россию полгода, не изменившись ни разу, но вызвав при этом две волны заболевания. А как может быть так, что вирус не изменился, а пришла волна, потом — другая? Это связано с тем, что иммунитет ослабевает, но не настолько, чтобы иммунизированные люди болели тяжело или умирали. При этом он ослабевает достаточно для того, чтобы они заболевали и в какой-то мере передавали вирус другим. Этого достаточно, чтобы вызвать новую волну.
— А почему у нас дельта не меняется?
— Она мутировала несколько месяцев до того, как вызвала новую волну в России, нашла себе какой-то «островок стабильности» — состояние, в котором ее функционирование оптимально настолько, что почти все мутации, как бы она их ни искала, только портят этот баланс.
— То есть известные ученым 13 вариантов — это не то чтобы альфа превратилась в бету, бета в гамму и так далее, а это все разные мутации первого, материнского, штамма?
— Пока — да, пока они чаще мутируют, начиная от первого штамма. И омикрон тоже происходит от первого штамма. Большинство этих ветвей эволюции пока идут параллельно. То есть это выглядит примерно как ветви одного дерева, растущие из одного корня. Может быть, не все из одного, но достаточно близко к нему.
— Когда ваши коллеги говорят, что омикрон имеет 32 мутации в S-белке, что это означает? Почему считается, что это очень много?
— У вируса геном довольно большой, он может кодировать около 10 тысяч позиций в белке. Из них на S-белок приходится около тысячи, то есть примерно 10% всего белкового богатства вируса. Но именно он больше всего интересует иммунологов, потому что находится на поверхности, а значит, виден антителам. Это значит, что на него можно «натравить» иммунитет и остановить или вообще предотвратить инфицирование. Поэтому практически все существующие вакцины нацелены именно на S-белок. А 32 мутации в этом белке значат, что из 900 с лишним позиций в нем 32 заменены по сравнению с исходным уханьским вирусом. То есть — примерно одна из тридцати. Пара-тройка из них приводят к тому, что вирус может лучше прицепиться к человеческой клетке или эффективнее в нее проникнуть. Хотя таких — единицы, а большая часть из этих 32 мутаций имеет одну цель: избежать атак иммунной системы.
— Можно ли именно это и дальше считать тенденцией в эволюции коронавируса: он будет лучше и лучше спасаться от иммунитета?
— На самом деле, хотя вирус этот с нами уже почти два года, мы мало знаем о функциях других его белков. А их много, и они играют самые разные роли.
Некоторая часть функционирует в самой вирусной частице, но большая часть работает только внутри человеческой клетки. Они копируют вирусные материалы, собирают новые вирусные частицы, направляют их в нужные места и так далее. Это рабочий аппарат вируса, который нужен ему, чтобы размножаться внутри клетки. И вот об их функциях мы знаем не так уж много. Об S-белке мы знаем гораздо больше, потому что именно им занимаются люди, создающие вакцины. На этом же основаны и многие тесты. Роспотребнадзор, например, пытается разобраться с многообразием штаммов, бытующих в России, глядя на один только S-белок.

Фото: ЕРА
— Биологи изучали и предыдущие 12 вариантов. Можно ли проследить, как именно вирус стремится меняться, и как-то это предсказывать?
— Конечно, есть какие-то участки в вирусе, которые мутируют постоянно, из раза в раз, составляя общее между разными штаммами. Но это именно то, о чем я говорил: один класс мутаций позволяет вирусу эффективнее прилипнуть к клетке, «узнать» рецептор, который даст возможность «открыть дверь» в клетку.
«Шип» на поверхности вируса представляет собой такое треугольное и как бы вытянутое образование. Самый кончик его называется рецептор-связывающий домен — RBD, он как раз и прилипает к клетке. Прилипнув, вирус должен еще прорвать клеточную оболочку и пройти внутрь. Для этого «шип» разрезается посередине, разрезает его клеточный фактор — фурин. То, что осталось, если можно так выразиться, протыкает клетку и втаскивает в нее всю вирусную частицу. В том месте, где работает фурин, часто тоже происходят мутации. Еще одна группа повторяющихся мутаций позволяет лучше спасаться от иммунитета.
— Можно ли это рассчитать и заранее учитывать при создании вакцин? Могут ли в принципе существовать такие технологии?
— Вакцины создавались полтора года назад, и тогда, если помните, не очень было понятно, как и куда пойдет эволюция вируса, знаний было недостаточно. Поэтому действующие вакцины созданы на основе очень ранних вариантов. Все они отличаются и от альфы, и от дельты несколькими мутациями. А омикрон уже отличается несколькими десятками.
— Да, но я помню, как создатели мРНК-вакцин говорили: вирус будет мутировать, но сама РНК-платформа такова, что достаточно только немного что-то «подкрутить» в «инструкции», которую несет организму вакцина.
— Да, это так. Формально пока для этого существует юридическая рамка. В Америке FDA, регулятор, утверждающий новые препараты, создал набор правил, как именно нужно изменять вакцины, если изменился вирус, как их нужно будет испытывать и проверять. Но хотя правила существуют, пока ни один новый, измененный, вариант вакцины не прошел по этой цепочке полностью.
— Когда надо было создавать вакцину с нуля, это сделали быстрее. Почему изменения вносят медленно?
— Просто в этом не возникало необходимости: каждый раз оказывалось, что «старая» вакцина продолжает достаточно эффективно работать против нового штамма. Одновременно проверялись две вещи: сохранила ли старая вакцина достаточную активность против нового штамма — и как будет работать вакцина новая. Каждый раз ответ получался один: старая работает достаточно, новой заниматься не надо. Дальше всего по этому пути прошла Moderna, испытавшая мРНК-вакцину против бета-штамма. Кстати, он, как и омикрон, возник в Южной Африке и, по-видимому, тоже в иммунодефицитных людях.
Компания довела новую вакцину до испытания, начала их и завершила, но так и не подала заявку на ее утверждение в FDA. Потому что к концу испытаний уже было известно, что активности старой вакцины хватает.
— Теперь, когда дело дошло уже до омикрона, что-то в этой схеме поменяется?
— И теперь то же самое. В течение ближайших двух-трех недель они намерены выяснить, хватает ли активности старых вакцин против омикрона. Одновременно они будут разрабатывать новую.
— Получается, что вакцины всегда сильно опаздывают? Пока они проверяют одну новую вакцину, появится пять новых штаммов?
— И Moderna, и Pfizer обещают, что новая вакцина, если она понадобится, поступит в производство через три месяца.
— Что может произойти с вирусом за три месяца?
— Например, пока разрабатывали вакцину против беты, та сама вымерла.
— Это хороший вариант.
— В любом случае, это большие расходы на разработки, на производство. Скорее всего, компаниям потребуется поддержка правительств, чтобы эти расходы осилить. Вероятно, мы узнаем о такой поддержке в форме грантов и предзаказов в течение ближайших недель.
— С векторными вакцинами, в частности — с российским «Спутником», все сложнее, там так просто не поменяешь «карго», которое несет в организм аденовирус. У нас новые варианты вакцины, наверное, нескоро появятся?
— Мне кажется, что они могут появиться скорее, чем мы думаем. Россия может даже обогнать всех остальных разработчиков. Но это не к счастью, а к сожалению.
— Почему?
— В России нет такой структуры законов, правил и ограничений — как именно надо испытывать вакцины, на что именно их проверять, эффективны ли они.
В России вводили в гражданский оборот препараты, не закончив реально даже первую фазу испытаний. Так что гибкости в производстве вакцин в России больше, но уверенности в результате меньше.
Потому что правил фактически нет. Точнее, их «рисуют» на ходу.
— Вы упомянули штамм бета, который, как и омикрон, возник в Южной Африке в иммунодефицитных людях. А какова связь между сниженным иммунитетом у конкретного человека — и развитием нового штамма? И не начнут ли у нас людей с иммунодефицитом считать опасными для окружающих?
— В русскоязычной литературе тоже был описан подобный случай: в Сколкове в теле пациентки, болевшей 9 месяцев, возникли десятки мутаций вируса. Связано это с тем, что очень слабая иммунная система борется с вирусом как бы вполсилы. Может быть, производит одно-два антитела вместо десятков. И вирус потихоньку к ним привыкает. Иммунная система понимает: что-то пошло не так. Создает новое антитело — тоже медленно и мало. Вирус привыкает и к нему. Так раз за разом, круг за кругом возникает очень много мутаций. Но, как правило, никому, кроме самого пациента, это не страшно.
Большинство мутаций не улучшают функцию того гена, который мутировал. Они будут или нейтральны, или что-то испортят. Если в гене накапливаются десятки мутаций, то активность его, скорее всего, снизится. Вирус той женщины в Сколкове никого ведь не заразил. Он просто был не способен эффективно существовать вне ее тела. Да — он приспособился к каждому элементу иммунной системы, но при этом потерял боевую активность. Так случалось уже десятки раз за время этой пандемии. Множество вирусов образовывалось в среде иммунодефицитных людей, ими пугали исследователей. Но выяснялось, что дальше передаваться эти вирусы не могут из-за слабой заразности.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68

Фото: ЕРА
— Мы-то с вами, обсуждая омикрон, говорим о мутации как об эволюции, когда вирус как раз совершенствуется, его заразность растет.
— Почему омикрон стал исключением — пока непонятно.
— Симптомы, связанные с заражением омикрон-штаммом, уже описаны, и они не очень характерны для известного нам почти два года течения болезни. Чем это объясняется, почему изменилась сама болезнь?
— На самом деле, от разных врачей по этому поводу можно услышать разное. И это в принципе понятно: терапевт рассказывает о людях, которых видит в своей ежедневной практике, педиатры видят тяжелобольных детей и так далее. Каждый пока видит кусочек своего медицинского фронта. Пока рано судить о том, что происходит с общей картиной симптомов.
— Но то, что болезнь «помолодела», замечают уже разные специалисты.
— И в этом я не уверен. В Африке, где зародился омикрон, в принципе очень молодое население, там очень мало стариков. Да, я понимаю, что там болеет в основном молодежь. Но пока я не понимаю, как это будет проявляться в популяции с другой возрастной структурой. Подтвердится ли, что болезнь «помолодела»? На основе отдельных докладов и сообщений об этом еще рано говорить.
— Дельта-то помолодела, это ведь уже признают и биологи, и медики.
— Дельта помолодела, это правда. Но это, я думаю, было скорее связано не с изменением вируса, а с изменениями внутри человеческого общества: природный иммунитет или иммунитет от вакцин шире распространился в более старших возрастных группах.
— Больше пожилых в мире переболело к моменту появления дельты?
— Конечно. А если пожилой человек переболел и не умер, то он часто получает очень и очень надежный иммунитет. В какой-то степени это связано еще и с тем, что за эти два года людей научились лучше лечить от коронавируса. Дают им кислород с большим потоком, справляются сразу со свертываемостью крови, ограничивают цитокиновые бури с помощью дексаметазона и так далее. Получается, что людей лечат эффективнее, хотя иногда это длится неделями.
— Это вы, простите, о каких странах говорите, где лучше научились лечить ковид?
— Я говорю об Америке. У меня есть знакомая, врач-пульмонолог, которая сейчас занимается ковидом.
С августа у них в клинике ковидные койки заполнены на 100%, потому что ковид сейчас не просто лечат, а его лечат долго. То есть нагрузка на медицину растет.
Раньше у них была норма на медсестру — один пациент, потом стало — два, сейчас уже три пациента на медсестру.
— На этом месте российские медсестры, наверное, заплачут. У них сейчас на каждую десятки пациентов.
— Я говорю об интенсивной терапии, не о любой палате.
— В России, только по официальной статистике, каждые сутки от ковида умирают больше 1200 человек. Чем бы вы объяснили такую дикую смертность?
— Боюсь, это объясняется тем, что в России слишком много пожилых людей не вакцинировано. Что-то, наверное, может быть связано и с перегруженностью медицинской системы, но самый главный фактор, по-моему, все-таки низкий уровень вакцинации. Если говорить о способах лечения, то они, думаю, идут из страны в страну. Конечно, везде есть свои особенности. И, конечно, в США не выписывают от коронавируса арбидол. Тем не менее методы лечения везде примерно одни и те же. Я уверен, что и в России врачи делают свое геройское дело, насколько это возможно, новых методов не пропускают.
— В этих методах нет ведь ничего такого высокотехнологичного и недоступного даже в менее развитой, чем американская, медицинской системе?
— Да-да, как правило, это вещи не высокотехнологичные. Конечно, в арсенале американских врачей есть еще и моноклональные антитела, но они все-таки применяются достаточно редко. Насколько я знаю, российским врачам известно и о проблемах со свертываемостью крови, они умеют справляться и с цитокиновыми штормами. Насколько часто они используют кислородные маски с высоким током — не берусь судить, просто не интересовался.
— Когда, по вашему мнению, омикрон-штамм будет исследован настолько, чтобы биологи могли рассказать нам, чего от него ждать дальше, как он повлияет на пандемию?
— Думаю, что данные по болезнетворности вируса и по работе вакцин появятся в течение двух недель.
— Так скоро?
— Это, конечно, очень оптимистическая оценка, но посмотрите, как активно мир движется в этом направлении. Никогда прежде не было такой исследовательской активности, никогда такая масса труда не была брошена на один вариант вируса. Но каким будет результат — не берусь предсказать. Единственное, что я знаю точно, это то, что в ближайшие месяц-два нам придется сталкиваться с ограничениями на путешествия, развлечения и так далее.
А дальше — кто ж его знает? Может, это будет продолжение того, что происходило в 2021 году, может быть — немного лучше, может — хуже. По крайней мере, в ближайшие месяцы просвет нам не грозит. Все уже раскатали губу, что сейчас поедем на курорты, у меня билеты куплены и на февраль, и на март, и на апрель…
— Ох…
— Не знаю, что из этого выгорит, а что сгорит. Но если в чем-то и можно быть уверенным во время пандемии, так это в том, что никогда нельзя быть уверенным в своих планах на будущее.
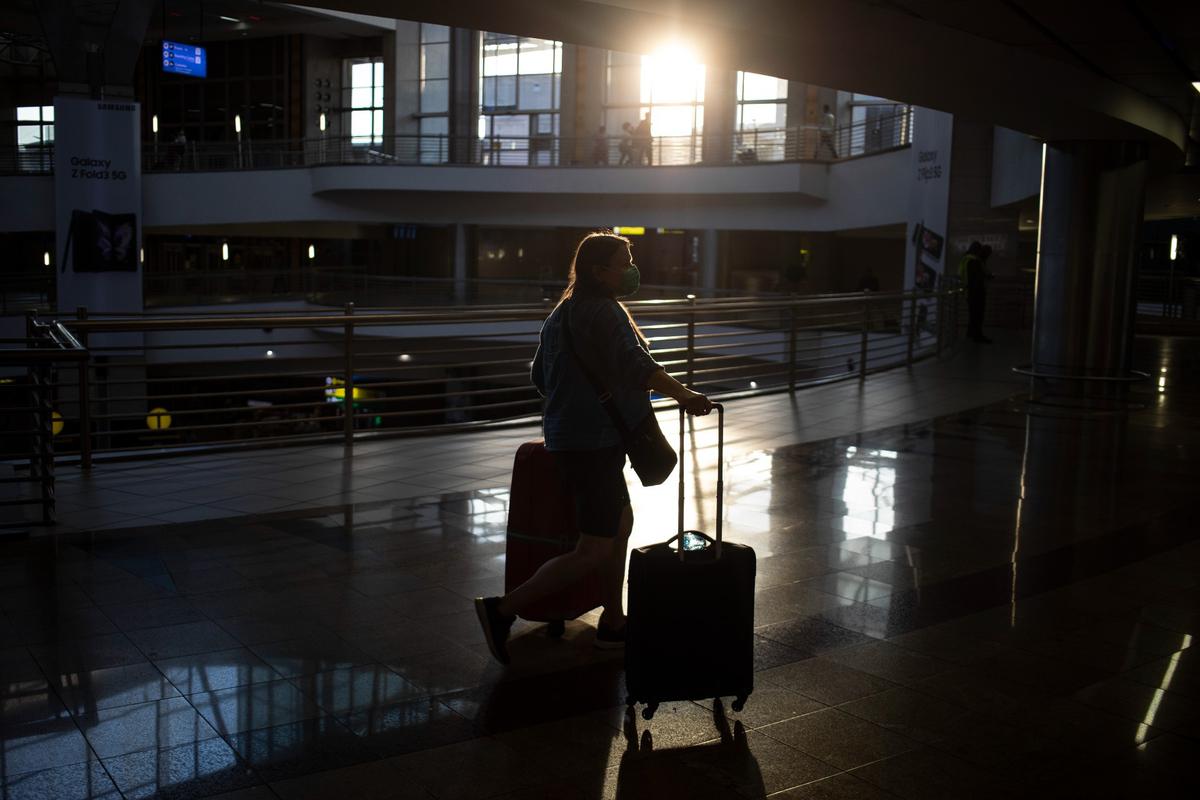
Фото: EPA
— Есть еще такой взгляд у биологов: да — вакцины уже в наличии, но продолжаться все это будет до тех пор, пока не изобретут надежное лекарство от коронавируса. Вроде бы уже появились препараты. Будет ли их эффективность зависеть от штамма?
— Пока не будет, потому что пока лекарства просто не существовало. А значит, вирус пока не имел ни малейшего резона мутировать так, чтобы спасаться и от лекарства. В будущем — через год, через два — может оказаться, что вирус привыкнет и к этому лекарству. Но к тому времени появятся и новые.
— Он не только к вакцине, но и к лекарству собрался адаптироваться?
— Должен, обязательно должен. Но легко ли это ему будет делать и сколько займет времени — неизвестно. Пока мы знаем, что разработанные лекарства от Pfizer и от Merck — это в какой-то мере продолжение идей, использованных для борьбы против вируса иммунодефицита человека. Эти идеи использовались и при создании лекарства от вирусного гепатита. ВИЧ — это инфекция очень хроническая, она принципиально долгосрочная. Это значит, что у вируса достаточно времени, чтобы пройти все витки эволюции, и, рано или поздно, в течение стольких-то лет, он всегда в какой-то степени избавляется от влияния лекарств.
— Но о коронавирусе ведь нет информации, что он встраивается в ДНК, как ВИЧ.
— Да, напрямую то, о чем я сказал, не транслируется на коронавирус. Во-первых, он мутирует не так быстро. Во-вторых, не сидит в человеке годами. Но на примере ВИЧ мы все-таки знаем, что при подходящем уровне давления эволюции вирус учится избавляться от действия лекарств. А значит, этого нельзя исключить и для коронавируса. Скорей всего, это произойдет не сразу и не полностью, а к тому времени и лекарств будет больше.
— Если вирусы такие ловкие, всё они учатся обходить, как же до сих пор медицина побеждала другие вирусные инфекции?
— Ну что вы, вирус такой маленький, он такой простенький. В нем всего 30 тысяч нуклеотидных пар. В человеке — три миллиарда. Человек умеет тысячи разных вещей — вирус кое-что тоже умеет. У нас для борьбы с вирусом есть в основном иммунная система. В России часто говорят «иммунитет сильный», «иммунитет слабый» — будто это что-то такое, к чему можно приложить линейку и измерить. На самом деле, это система, состоящая из сотен разных компонентов. Иногда они мешают друг другу победить вирус, иногда помогают.
Но вообще это дико сложная система, которая справляется с вирусами на многих и многих уровнях. Для начала у детей, у которых еще нет иммунитета, уже есть врожденная система по уничтожению вирусов. Она даже не разбирается, что там за вирус. Просто есть разнообразные сенсоры, которые сигнализируют: ой, кто-то завелся. И — сразу бить. Если к вирусу прилепились какие-то антитела, не важно какие, в дело вступают макрофаги, которые заглатывают эти вирусы и перемалывают в труху. Если вирусы уже проникли в клетку и недоступны для антител, то в дело вступают Т-клетки и добивают их там. В системе огромное количество компонентов, они складывались миллионами лет.
Говорят, что когда люди впервые проникли в Юго-Восточную Азию, примерно 50 тысяч лет назад, они уже тогда столкнулись с коронавирусами, похожими на «наш».
И в следах человеческого генома есть следы эволюции, вызванные необходимостью противостоять этим коронавирусам. То есть встретило человечество новую угрозу — добавился новый «департамент» в иммунную систему.
— Чем этот коронавирус отличается от других — побежденных человечеством? Почему с ним никак не удается справиться, хотя в течение двух лет на него брошена вся медицинская наука в мире?
— Ах вот вы о чем! Просто этот вирус очень новый. В прежние времена вакцины разрабатывались по 10 лет.
— То есть не в вирусе дело, а просто мы слишком быстро хотим получить результат?
— Да, мы слишком быстро хотим получить результат. И человечество стало старое, больное, а терять тысячи человек из-за вируса уже не хочется. Раньше считалось, что «бог дал — бог взял», сколько вспышек разных было — «испанка», до нее — «русский грипп», убивший миллион человек. Не было антибиотиков. Считалось, что кто-то из детей обязательно умрет, и их рожали много. Люди в 50 лет считались глубокими стариками. Сейчас детей гораздо меньше, стариков гораздо больше. Но отношение к человеческой жизни стало другое, более трепетное.
В России, увы, бывает и иначе: молодые не привитые люди ходят к пожилым родителям и не очень заботятся, заболеют ли те. Но в принципе в мире отношение к жизни уже другое. Поэтому мы сейчас просто очень многого хотим, и хотим сразу. И все-таки современная наука, медицина и технологии помогут нам сохранить жизни и взять вирус под контроль, хотя на это и потребуется время.

