— Начнем с финала. Представьте: стоите вы (своевременно, конечно) перед Петром с ключами, и он как-то не торопится открывать. Помните, как Шевчук сказал президенту: «Я Юра, музыкант». Вам этого говорить не придется, вас все знают. Но вот апостол Петр почему-то не признает. Вы ему тогда как рекомендуетесь: «Я Машков…» — кто?
— Тут такая история: я с большой иронией отношусь к узнаваемости вообще. У меня много столкновений было забавных по этому поводу с гражданами. Более того, от узнавания я испытываю некую неловкость, стесняюсь, тушуюсь. Поэтому если меня не узнают, я в этом же состоянии, стесняясь, простою перед Петром. Я-то его узнаю!
— Но Петр-то не земной облик осознает, вашу суть. Как вы ее представляете?
— Ну давайте, помогайте: продолжаю изучать себя. Опять же мы развиваемся. Как только развитие прекратится — все.
— То есть вопросов к себе пока еще много?
— Вопросы есть. Какое-то время я верил, что вся мировая драматургия о любви. Ну хочется верить, и профессия моя романтическая. А потом понял, что, скорее, наверное, вся драматургия о страхе. То есть как только мы получаем любовь, получаем и пакет страха огромный. Страха потерять, быть непонятым, упасть в разрушение ревности. Утром мы просыпаемся, и нам страшно.
— А вы когда просыпаетесь?
— Когда снимаешься, встаешь очень рано, нужен световой день. Когда работаешь в театре, твоя деятельность заканчивается к трем-четырем часам ночи — нормальный график. Поэтому раннее утро я люблю наблюдать, а вот активно действовать до 11 часов не люблю.
— И почему вы решили исследовать страх?
— Потому что с годами понимаешь: что бы ты ни получал, что бы ни происходило, мы всю жизнь идем к главному нашему страху — смерти. И эта борьба — как человек поддается страху, как борется с ним, как живет с ним — самая значимая.
Поэтому главное наше исследование сейчас, Театра Олега Табакова, идет в области эмоционального интеллекта, чувств и эмоций. Внимание — это, мне кажется, самое главное, что нужно для актерской профессии. Оно подключает наше воображение, воображение подключает чувства, происходит действие. Вот за этим процессом я давно уже стараюсь следить. Где мое внимание, на что обращать внимание, на что нет.
— Когда вы поняли, что это ценность?
— Когда сам стал снимать кино с собой в одной из главных ролей. То есть когда я делал фильм «Папа», мое сознание разделилось на четыре части: я был продюсером, который считал деньги, я был режиссером, я был одним из соавторов сценария и артистом, исполняющим одну из ролей. Четыре несовместимые должности. Я приходил раньше всех, меня гримировали 2,5 часа, потом мне нужно было развести людей и пойти сыграть, и после этого посмотреть себя, сделать себе замечания и попытаться их воспроизвести, снова посмотреть, сделать замечания и снова попытаться. Бывало, что я не знал, что делать, я расслоил себя и при этом остался один. И в этом состоянии крайней мобилизации находился на протяжении долгого времени.
— Из этого опыта вышли с ощущением: режиссер вам больше не нужен?
— Я вышел с ощущением, что мне не страшно вообще ничего, ну то есть ничего в мире кино. Что я могу в кино сделать все, чтобы необходимый процесс продолжался.
— Теперь на сцене?
— Да, здесь у нас много нерешенного, здесь есть куда двигаться, как себя исследовать, каждый спектакль мы движемся к себе. Это великое дело, это магия. И я даже иногда думаю: а что ж такое может произойти, что меня настолько заинтересует, что я, допустим, скажу: «Ребята, подождите, я сейчас, на минуточку…» И не представляю.
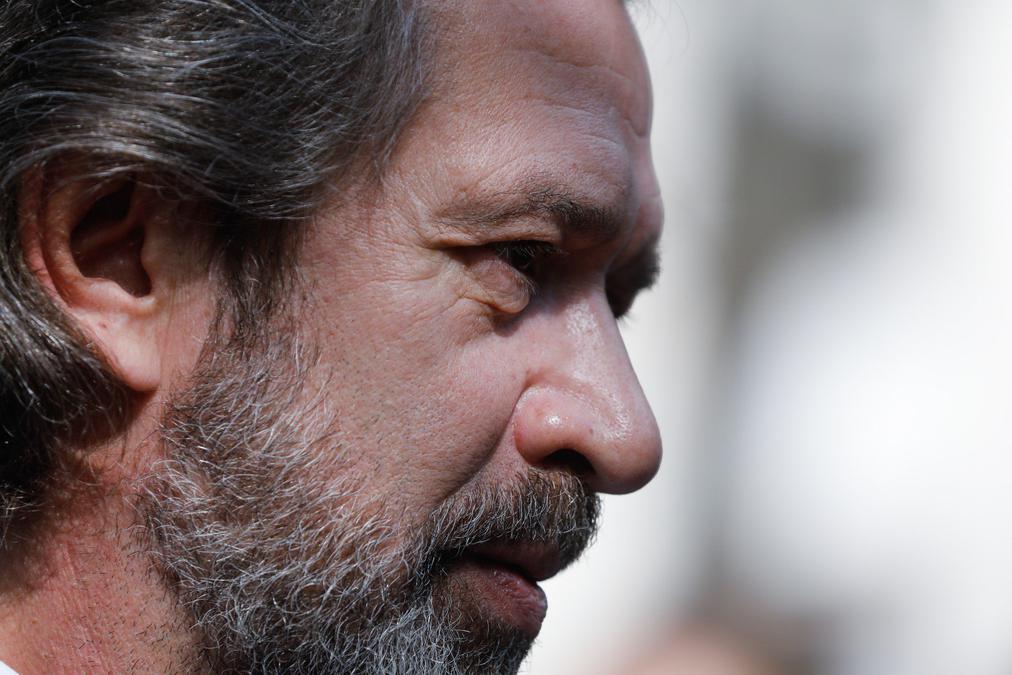
— Жизнь в провинции с первых лет обострила слух на время, на то, что людям нужно?
— Да, нужен именно слух как некая попытка внимания. Ну родился я в Туле, раненько оттуда уехал, родители с театром кукол переехали во Фрунзе, а потом был Новокузнецк, очень такой лихой городок.
Знаете, есть ясновидящие. А хорошо бы развивать яснослышание — чтобы правильно понимать, что происходит. Моя профессия меня сталкивала с огромным количеством разных людей, и сейчас я все время продолжаю перемещаться, вижу людей в диапазоне от ребят четырнадцатилетних до взрослых во власти. Любое слово, ими произнесенное, это осколок чувства, который может мне пригодиться. Поэтому в жизни очень важно умение слышать — чтобы потом обосновывать происходящее на сцене, здесь и сейчас. Не услышал — значит, ошибся. Почему мы все повторяем фразу Пушкина про «опыт — сын ошибок трудных». Опыт — это столкновение, ошибка.
— Опыт ошибки важен?
— Да сам опыт — и есть ошибка. Наша деятельность коллективная, эмоциональная, чувственная от начала и до конца. Поэтому спектакль такой загадочный всегда, всегда разный. Театр это творческий твой дом, союз людей, которых ты любишь, за которых бьешься.
— Вот три года уже бьетесь.
— Да, в апреле будет три.
— Что в себе пришлось изменить, чтоб из вольной кинозвезды, превратиться в театрального лидера, обремененного труппой, репертуаром, ремонтом и отношениями с властью?
— Это битва, наверное, с самой главной бедой в театре и в кино. Беда личности каждого артистического человека — эгоизм. Актеры очень эгоистичны. Когда ты понимаешь, что ты что-то можешь, что у тебя получается, тут все время искушения возникают для проявления своего эгоизма. И это бывает самым отвратительным — и на съемочной площадке, и в театре — проявления эгоизма.
— Себя пришлось ломать?
— Пришлось, потому что в театре я зависим. Зависим от таланта моих актеров, от того, что они будут делать, как они сыграют каждый спектакль. Я с ними на сцене рядом, и мне самому приходится каждую минуту им доказывать свое право на сцене находиться. В театре быстро становится понятно, кто есть кто.
— Ну и как тренировать труппу, претендующую быть звездной, что делать, чтобы воспитывать остроту слуха, внимательность?
— Личным примером. У нас же не просто театр, у нас школа и театр, то есть цепь. На каждом из артистов, и молодых, и опытных, лежит ответственность, ребята из Школы Табакова сразу же выходят на сцену и уже ответственны перед теми, кто еще учится. Нет финальной точки, только процесс. Я работал с величайшими актерами, с величайшими режиссерами — и как режиссер, и как актер, и в кино, и в театре. И прекрасно знаю всю нулевую гарантию нашей профессии.
— Что такое «нулевая гарантия»?
— Ты не можешь гарантировать успех. Черчилль точно сформулировал: «Успех — движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма». Ты просто понимаешь, что это некий путь. К тому же мы не знаем, как выглядим в данную секунду. Мы знаем наши чувства, знаем, что мы испытываем, что хотим передать, а годится ли наш состав людям, так ли они его считывают — это зависит от эволюционных способностей эмоций. Либо ты попадаешь, либо нет. То, что на сцене происходит, для нормального человека, если задуматься, выглядит странноватым. Вот это вот все, что происходит с тобой как с артистом, как ты присваиваешь яркие проявления эмоций персонажа. И так же странно, что зрители тебя могут любить практически ни за что — за те чувства, которые испытали в зале.
— Когда вы ходили в синагогу наблюдать за молящимися евреями для роли — что искали?
— Это был мир, который мне абсолютно неведом, и я наблюдал за этим миром, искал эту их сосредоточенность, их какую-то запредельную искренность в проявлении эмоций и чувств, и да, забвение себя.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68

— Был у вас урок провала?
— Причем лихой. Мы, молодые артисты, играли один спектакль в подвале у нас, в небольшом пространстве он шел забавно, получался. А потом мы поехали на гастроли, выступить на большой сцене, где в зале было человек шестьсот. Я играл главную роль. В финале аплодисменты, и я слышу из зала кричат: «Валера! Валера!» А я, молодой артист, думаю: в программке написано В. Машков, наверное, думают, я Валера. И я говорю: «Ребята, пошли!» — и еще раз выхожу в полной радости. И понимаю, что какая-то женщина кричит: «Фанера! Позор!» Товстоногов об этом очень точно говорил: мы иногда приходим на спектакль, смеемся, но если этот смех не основан на наших чувствах, если мы не видим этих чувств у артиста, мы начинаем презирать артиста. Хлопаем, но при этом презираем.
— Так жестко?
— Да, именно так в его записках. Георгий Александрович написал: «Выражается презрение». У меня есть стенограммы «Современника» шестидесятых годов — нашел в бумагах Олега Павловича. Там та же самая битва за человека, спор, что главное в театре. Система переживания (они ввели термин «проживания») или действие?..
— Вроде основоположник считал, главное — жизнь человеческого духа.
— Для меня жизнь человеческого духа — это жизнь человеческих чувств. У меня нет ни одной роли, в основе которой не было бы острейшего чувства, которое исследовалось. Другое дело, что и как делал тот или иной человек в зависимости от предлагаемых обстоятельств. Но все они находились на абсолютном пике своего существования.
— Роли в «Матросской Тишине», сыгранной с интервалом в 30 лет, это тоже касается?
— **Еще бы. В молодости, когда мне дал ее Табаков, в мои 23 года, у меня **были отчаянье и ярость. И счастье, когда я понял, что можно так себя разорвать, так взять, чтобы тебе прямо больно стало. Мне и тогда было о чем играть, я и тогда понимал, о каком чувстве идет речь.****
— Потому что родителей рано потеряли?
— А родители — единственные люди, которые любят нас ни за что. И утратив эту часть «любви ни за что», понимаешь, что лишился страха. У мамы всю жизнь болело сердце, три инфаркта, вечный запах валерьянки, страх был все время, с ним жили.
Ведь чувство утраты, оно состоит из полной потери вот такого самого дорогого и абсолютной свободы. Ты потерял — и ты свободен. Ты ничей.
Самое страшное — то, чего ты всю жизнь боялся, — случилось. Тогда становишься бесстрашным.
— Но сейчас, когда вы снова играете ту, уже знаменитую роль отца в «Матросской Тишине» все совсем по-другому…
— Да, сейчас это только любовь. Та, о которой сказал апостол Павел, которая милосердствует, не мыслит зла… всему верит, всему надеется, все переносит… У Абрама Шварца абсолютная бескорыстность, абсолютная радость, абсолютное понимание, принятие всего, высший, уже библейский вариант прощения.
И зритель наш в этот момент начинает смотреть в себя; у меня очень много писем от людей, которые признаются: «я после спектакля позвонил отцу, давно с ним не разговаривал». Человек решил после спектакля за минуту тяжелейший вопрос своей жизни, бетонная плита лежала, он ее раз, сдвинул, она исчезла.
Тот же Георгий Александрович Товстоногов говорил, что театр для того, чтобы будить в людях совесть.
— Кстати, Товстоногов, если артист на репетиции не мог сыграть, выполнить задачу, иногда вызывал из зала другого. И случалось, что тот, кто поднимался на сцену, на ней и оставался, а тот, кто с нее сходил, лишался роли. Георгий Александрович умел быть жестоко непреклонным.
— Это потому, что он не выходил с ними на сцену! А я выхожу, и у меня есть понимание, что я сам могу в такой ситуации оказаться, когда у меня не выходит. У меня бывали случаи, что артисты не справлялись, хорошие артисты, но тут ведь очень деликатный момент. Конечно, это очень удобно: у меня свое дело, у вас свое, вы не делаете свое дело, садитесь! Но мне неудобно так! Я лучше к ним выбегу и с ними пробегусь.
А вообще у Товстоногова для меня существенно соединение какой-то такой эмоциональной ярости, какого-то очень яркого чувства с сухой логикой исследователя. Потому что в основе той же системы Станиславского лежат ум, воля, чувство — три столпа, на которых стоит актерская профессия, три столпа на пути к сверхзадаче.
— Какую свою ошибку считаете полезной, жизнестроительной?
— Вел себя иногда, бывало такое, очень яростно, аффектно. Сталкивался с людьми, и меня отторгали. Я понимаю, что это ошибка. Особенно понимаю сейчас, что при всем темпераменте нужно уметь его сдерживать, потому что находишься в самом чувственном месте мира — в театре. Где каждую секунду проверяются твои эгоизм, амбиции, каждую секунду. И все здесь обострено.
— Когда я впервые увидела безумные зеркала и витражи на Сухаревской, подумала: Машков в детстве должно быть любил стеклышки калейдоскопа…
— Правильно, детское восприятие мира — одна из основ театра. Человек удивляется один раз, а дальше все уже, привык. Для меня зеркало — удивительный символ человека. Оно нужно только человеку. Почему мы идем к зеркалу сцены? Мы идем за узнаваемостью. Перед выходом на сцену мне нужен последний взгляд в зеркало, я должен увидеть — кто я. Это уже не я, но мне необходимо увидеть этого «подселенца». Любой образ — тот человек, которого я подселил в себя, — действует на мои чувства, на мои эмоции. И практически во всех людях, которых я играл, в них силы больше есть, чем у меня, даже предполагаемого.
— Герой сильнее натуры?
— Был у меня момент соединения. Давнишняя история, но как раз в такие моменты начинаешь что-то понимать о себе. Снимали фильм «Край» под Питером. Октябрь, холодно, река Вуокса — бурная река, и я должен был плыть через нее, до середины доплыть. Играю я там героя. Вода градусов 6–7. Я в гимнастерке, на шее сапоги. Начали снимать, и мне сказал парень-каскадер: «Ты только вот туда не заплывай, там камень (я даже помню имя камня — Жандарм). Если ты в него попадешь, мы тебя не вытащим». И я поплыл, и река как-то так стремительно меня понесла, гребу и думаю, сколько мне грести-то еще? Ну, наверное, все уже. Проворачиваюсь и вижу, мост, с которого снимают, очень далеко. Снова начинаю грести и понимаю: не смогу доплыть до берега. Вода ледяная сковала шею, все стало очень медленным и начал душить страх. А каскадер Слава стоит на берегу, смотрит на меня. И я понял, что не могу крикнуть: «Помогите!»
— Почему?
— Стыдно. Герой не может крикнуть: «Помогите!»
— То есть гибнете в роли героя?
— Ну да! Я прямо оценил этот момент позора. И стал, уже за пределами возможного, грести. В момент, когда осознал, что все, больше не могу, высунул голову и крикнул: «Слава, мне **** (конец)!» Вот такая фраза родилась у героического человека.
— Услышал?
— И побежал, бросил мне веревку, я чудом ее схватил, меня прибило ко дну, мы вдвоем крутились, и он меня вытащил. Я выпил пол-Вуоксы. Висим на камне, и в этот момент с моста орут: «Второй дубль!» Они не видели, что произошло. В этот день не успели снять, и на следующий день утром я все повторил.

— Вы восстанавливаете еще один легендарный спектакль прежней «Табакерки». Почему снова — «Бумбараш»?
— Есть несколько причин. Первая — я его люблю. Но нет, с главного начну. Олег Павлович буквально за полгода до ухода попросил меня вернуть этот спектакль.
— Практически завещание?
— И чтобы по-настоящему исполнить его, мне нужна была хорошо оснащенная труппа. Теперь она у меня есть, и на сцене будет почти весь состав театра. Это наше посвящение Олегу Павловичу Табакову.
— Юлий Ким что-то меняет в тексте?
— Да, зрителей ждут всякие сюрпризы. И в тексте, и в музыке, и в сценографии. Но эта история для меня, как говорится, про грядущее и вечное. Самая страшная русская забава — Гражданская война. Вот как запустили, так она и не прекращается, уже сто лет. Бумбараш — это мы все. И он нужен всем. Он тот, кого не хватает. Плюс один. Плюс один. Плюс один. А это же все наши родственники — и белые, и красные, и зеленые. Мы из них состоим уже давно. И эта битва у нас внутри продолжается. Поэтому «Страсти по Бумбарашу» — чтоб мы посмотрели на себя.
— Как вы ощущаете момент, Владимир Львович?
— Конечно, это мое субъективное отношение, но я живу в потрясающем времени.
— То есть конфликта с ним нет?
— Его все время подкидывают. Конфликтов миллионы, но я все равно понимаю, что лучше выбрать созидательную часть нашей профессии.
Я вот такую стопку листов подписал, что художественный руководитель обязан делать. То есть я отвечаю за все.
— Как в старой советской пьесе…
— …как это было в «Современнике»: «Вы ответите за все». «И за свет, и за газ», — добавил Евстигнеев. Константин Райкин очень точно когда-то сказал: в театре, как в песочнице, — отвернулся, и уже кто-то наступил, и надо снова куличики формовать.
— Какой вы бы хотели транслировать, как нынче говорят, месседж в воздух Москвы?
— Да нету у меня никакого месседжа. Вот хотелось бы с собой разобраться.
— А трудно с собой разобраться?
— Ну справляемся. Тут все зависит от того, насколько ты увлечен. Видите, у меня над столом наверху написано: «Увлечься, почувствовать, захотеть». Никак не наоборот.
Пока снимался, усвоил одну потрясающую мысль Станиславского: «Ввиду того, что у артиста говорящего кино есть крупный план, особая обнаженность человеческого лица, настоящесть места действия, это обязует быть артиста еще более подробным в актерской технике». Ну вот я смотрю вам сейчас в левый глаз, а сейчас буду в правый — видите это движение?
— Вижу.
— Это уже мизансцена. Поэтому ты должен знать свое лицо, должен знать лицо партнера, понимать, как оно существует. Это очень тонкая работа, в кино тебе позволительно говорить глазами. И вот сейчас мы хотим старую, первую «Табакерку», наш угольный подвал, отремонтировать и сделать заново. Там есть крупный план, чтобы говорить глазами. Это уникальная сцена, там можно исследовать совсем какие-то тонкие процессы, те, что живому театру сегодня необходимы.
— Когда премьера?
— К июню.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
