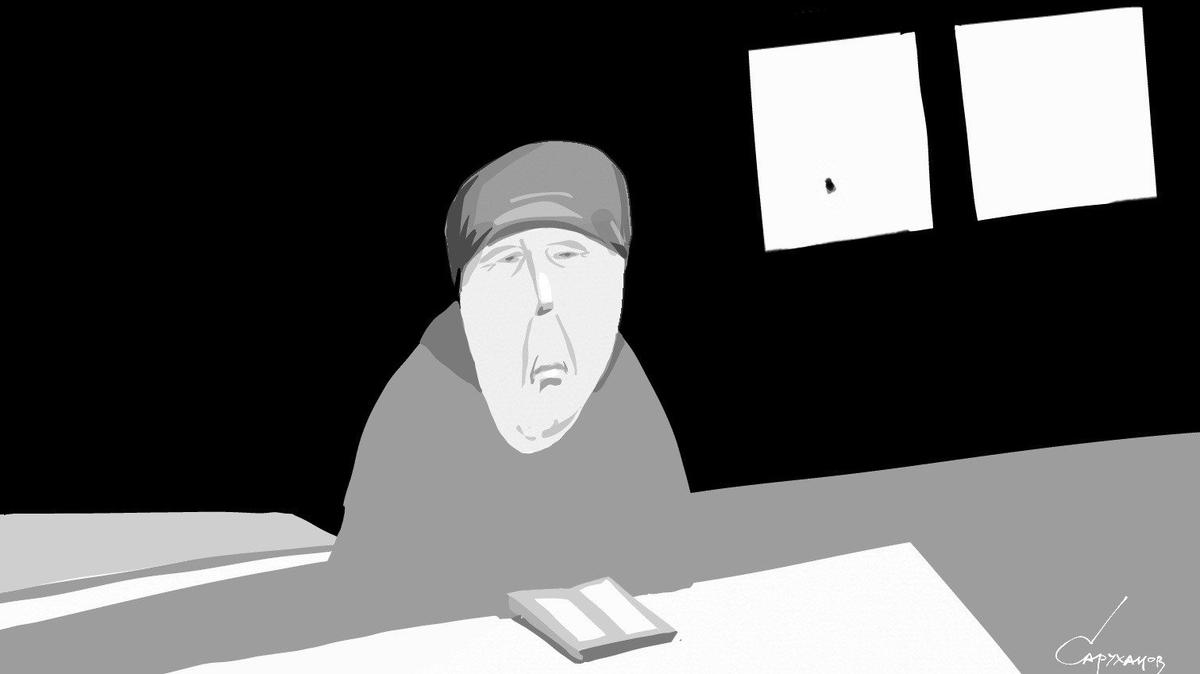(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГОРДЕЕВОЙ КАТЕРИНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ГОРДЕЕВОЙ КАТЕРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ.
По комнате летает муха. Или мошка. Или что-то среднее. Но точно не комар. Тот бы пищал, а она — жужжит, притом противно.
Галина Прокопьевна пытается поймать насекомое свободной рукой. Пальцы-крючки гребут воздух, но все как-то мимо.
Муха ускользает. Галина Прокопьевна сердится: «Тьфу, проклятая». Опускает руку, слюнявит палец, переворачивает страницу псалтиря, лежащего на коленях. Читает.
Читает, читает, читает.
Бормочет одними губами.
Отвлекается.
Задумывается.
Глядит перед собой в никуда.
Я сижу слева от нее на кривоногом стуле: одна ножка короче трех. Очень хочется покачаться, но я стараюсь сидеть ровно. Я смотрю на Галину Прокопьевну. В образовавшуюся тишину проникают звуки телевизионного шоу, в котором женский и мужской голос выясняют отношения, все прерывается рекламой.
Галина Прокопьевна выходит из оцепенения. Взгляд останавливается на железной тарелке в углу. Не в том, где икона, в противоположном. Там наскоро собран и возвышается бесформенной мусорной кучей весь хлам из комнаты, который подпирает железная тарелка синего цвета. Местами синяя краска облезла и видна ржавчина.
Галина Прокопьевна кивает:
— А то вон, видишь, тарелка, такая железная, я на ней кручусь. Это диск «Здоровье». Он у меня с 1983 года, мне подарили на 8 марта от коллектива, то есть от всего нашего цеха, с тех пор и кручусь. Раньше говорили, так и в инструкции написано, что это для талии хорошо помогает, а так-то для талии или нет, не знаю, но кишечник послабляет. Я с тех пор как кручусь с запорами не знакома. И тебе советую. Есть у тебя такой? Нет? Ну сейчас уж, наверное, и не купишь нигде, но ты поищи.
Поищи…
Я еще раньше на скакалке прыгала, до ста прыжков могла в день! Но той зимой подзабросила и это лето, считай, первое не прыгаю. Где-то на улице лежит скакалка, тебе не надо?
Бери, бери!
Бери.
Движение помогает, я вон, видишь, сколько прожила и все в силах. А потому что спорт.
Спорт!..
И никакой лени. Я в полшестого встаю, а иногда и в пять, и сразу гимнастика, обливание и потом по хозяйству, а минут в пятнадцать восьмого бегу на работу. Сейчас, конечно, не как раньше, я на вахте сижу, работаю контролером на проходной. Но все меня знают, со мной все здороваются. А по общественным заботам — это испокон всегда ко мне, я в Совете села третий срок председателем, единодушно выбирают, без меня никуда: на свечки для окопов собирали в прошлом месяце — я собирала, сетки плели — я контролировала. А когда пришлось у одного тутошнего бизнесмена восемьсот аж тысяч просить для закупки квадрокоптера для бойцов из нашего села, это тоже я в город ездила… И за вторым ездила тоже я, за квадрокоптером. Все говорят: «Прокопьевна, едь ты, тебе ить не откажут». И то правда. Да.
Меня уважают.
Уважают…
Да, меня уважают!
И есть за что. Я свою жизнь не напрасно прожила, всегда работала, все родине отдавала, всю себя. И родина в долгу не оставалась. Мне не на что пожаловаться. Я всегда была на хорошем счету… А то еще важно, дорогая моя, как тебя, Катя? Вот, Катя, важно, чтобы ты всегда, каждый день жила с верой в хорошее. В то, что все будет хорошо, что все — правильно.
Галина Прокопьевна слюнявит палец и переворачивает страницу псалтиря.
— Сама-то я не верующая. Я в церковь по делам хожу обычно по общественным. Там с людьми проще всего говорить… мне уже поздно перевоспитываться. Меня воспитали так, что никакого бога нет. Но сейчас другое время. И вот — ну… мать его попросила, и женщины все говорят, что надо почитать. Я и читаю. Так-то я святые книги только в детстве у бабушки видела, но тогда их больше прятали, учились без бога жить, своим умом, и выучились! Так и нас воспитывали. И воспитали! Сейчас другое время, религия снова в ходу. А вот ты веришь?
Я киваю.
Галина Прокопьевна пожимает плечами. Рассматривает псалтирь. Он прежний. Муха, которая надоедала Галине Прокопьевне, с размаху бьется в четвертушку окна ее избы, отлетает сантиметров на двадцать и снова таранит стекло. Муха вибрирует на окне с неприятным звуком. Как будто сверлят.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Но Галина Прокопьевна не слышит. Она опустила голову и читает псалтирь себе под нос. Замирает. Мне кажется, что засыпает. Но она снова поднимает голову и, как будто никакой паузы и не было, продолжает:
— Так что я не особенно верующая, не молюсь, поклоны в церкви не ломаю, но я вот пока на работу бегу, смотрю — какая красота-то кругом, как мы хорошо стали жить! И радуюсь и благодарна судьбе, что так сложилася моя жизнь. А размышлять мне некогда и так всегда было: на работу, с работы, курам насыпать, свинье, пока свинью держала, дать, дров принести. Хорошо теперь вода в доме, а так ить и на реку надо было сбегать… Ну и потом зимой можно к вечеру полениться у телевизора, а летом-то допоздна грядки, огород: все прополоть, удобрить. Гена мне помогал, теперь Виталька будет… Ох, как же мне Генка тем летом лопату починил! Я же вот на полную ставку дворником устроилась: и деньги пригодятся, и работа такая, физическая, подъемная. Меня в сельсовет на ставку, говорю вот, взяли. Нас трое, все пенсионерки! И платят нам за счет самоуправления, а эта вся экипировка — кто во что горазд, это мы сами: и валенки, и тулуп, и метелки, и вот лопата…
Лопата всегда нужна.
Лопата — пригодится в любом.
Лопата. Да.
Так что я говорю? У меня от лопаты черенок отломался, я к Геннадию — внучек, выручай. А у него руки золотые, золотые! Черенок сам вырезал, отполировал… Говорит: гладкий, бабуль, ни в жизнь не занозишься. И то правда: я столько снега этой лопатой в зиму перекидала. Нарадоваться не могла, все Генку благодарила… Ну мысленно. Его в октябре под мобилизацию забрали… А теперь — вот. Только Виталька у нас и остался.
Она гладит коричневой в шариках набухших суставов рукой страницу псалтиря. Глубоко прерывисто вздыхает. Складывает на псалтире руки одну на другую. Я смотрю на них. Большие, раздавленные многолетней работой руки: вросшая в кожу земляная каемка под ногтями, пальцы враскоряку, большой на левой руке выгнулся вверх и вместо ногтя желтый нарост, безымянный на правой — туго перехвачен толстым серебряным обручальным кольцом, которое, кажется, снять можно теперь только вместе с пальцем. Вместе с жизнью.
— Тяжелая жизнь у вас?
— А я бы не сказала, что тяжелая. Это привычка. Кто мало шевелится, ленится жить, как вот есть тут у нас по соседству Алевтина одна: она как вышла на пенсию в 50 лет, так больше ничего, не шевелилась. Стала толстая, во-первых, а во-вторых, — еле-еле переступает ногами. Ей до магазина не дойти. А я палки в руки и шагаю, а мне на 34 годка-то побольше… Я родилась в 1940-м году, у нас маленькое село было недалеко от заимки. Родители мои простые крестьяне. Мать неграмотная, одного класса не кончала, свою фамилию кое-как царапала. А отец кончил церковно-приходскую школу и считался очень по тому времени грамотным мужиком. Они нас тянули-тянули и вытянули, но не одни, с государством совместно, конечно. Ты только представь: нас у отца с матерью было пятеро, все выжили — это, во-первых, а во-вторых у всех у нас высшее образование! Невероятно!
Ох, как мы за него боролись, это не то, как сейчас я слышала в семьях и с бубном, и с гармонью скачут родители перед своими отпрысками: выучись, детка, дам тебе конфетку. Мы знали, что нужны своей стране образованными, иначе никак! Начальная школа у нас была в трех километрах от дома, а с пятого класса — пятнадцать километров надо было до школы добираться. Ну мы не каждый день ходили. В понедельник уйдем, в субботу домой, спали у добрых людей, кто на печке, кто в сенцах. Вот меня с братом и с сестрой приютили дедушка да бабушка, неродные, никак не знакомые, но все одно — пустили нас и спали мы на полатях вповалку: мешки набьем сеном, или соломой, или травой, одеял не было, подушек не было, простыней или там пододеяльников, или наволочек тем более, этого ничего не было. Вот на мешках, соломой набитых, и спали. А закутывались вверху каким-нибудь тулупом, фуфайкой, еще чем-нибудь: ноги закинешь, сам накроешься — благодать. Да, счастливы все были безмерно, мы же будущим своим жили!
Мы радовались, что вот у родителей не было наших такой возможности, а у нас — есть… Такие, деточка, нам перспективы виделись, такие возможности! И ведь все сбылось, все свершилось. И все своим трудом…

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Галина Прокопьевна автоматически переворачивает страницу псалтири. Из невидимого телевизора слышна отбивка новостей, диктор здоровается. В дальней части дома слышатся голоса. Какие-то люди заглядывают в комнату, выходят, кто-то за дверью уточняет время и спрашивает, когда приедет машина.
— Да уж скоро, — на выдохе отвечает Галина Прокопьевна. И смотрит в окно, на котором сидит муха. И за которым на ветру качается ветка яблони с несколькими нежно-розовыми яблоками. Почему-то очень хочется выйти, сорвать и укусить это яблоко. Или потрясти ветку, чтобы яблоки попадали, и тогда точно найдется сладкое-сладкое. Почему-то я думаю, что Галина Прокопьевна точно бы не отказалась от яблока. Если бы, например, я ей его порезала. Или запекла, как делала моя бабушка: отрезаешь верхушку, выскребаешь сердцевину, туда — мед. Ставишь в микроволновку и запекаешь.
Я смотрю по сторонам. В этой комнате точно нет микроволновки. Есть ли она в доме?
— Да, скоро уже, — говорит Галина Прокопьевна и закрывает псалтирь. А потом говорит:
— О чем это я тебе?
— О жизни…
— О жизни долго говорить. Опять забыла, как тебя?
— Катя.
— Я тебе, Катя, в общих чертах про нас, про поколение, которое страну вам построило, которое радоваться умело, а не только потреблять. Вот ты только представь себе: в первый класс я пошла босиком, надеть было нечего. И весь сентябрь босиком и проходила, а учительница сажала меня на первую парту, и я такая счастливая была! Я так смотрела на нее вот прямо с обожанием. Нина Васильевна ее звали, до сих пор помню и помню стих она нам читала:
На широком просторе
Предрассветной порой
Встали алые зори
Над родимой страной.
С каждым годом все краше
Дорогие края…
Лучше Родины нашей
Нет на свете, друзья!
И так сердце прямо у меня заходилось, чуть ли не до слез, когда она своим звонким голосом произносила: лучше Родины нашей нет на свете, друзья!
Такая она красивая в этот момент была, и я тоже хотела стать как она! Стать учительницей, детям про Родину рассказывать, нести свою веру, свою мечту! Но я в техникуме еще пошла по комсомольской линии и ячейку возглавила, а в институте меня в партию позвали, не получилось в школе работать, не дошло до этого, другие были вызовы! И ответственность другая, партия, ух, это же такое было испытание, такой аванс тебе давался, только самых туда, самых, как тебе объяснить, ответственных, безупречных брали, ох как я боялась не соответствовать… а достойна ли? Сейчас уже понимаю: да, хорошо все сложилось, достойна, оправдала, не подвела…
А вот сестра у меня учительницей всю жизнь… У нее, у Тани, жизнь личная не сложилась, и она всю себя деткам отдавала. Хотя в детстве она была в семье самая видная. Мать так всегда говорила: «Ты, Галь, по хозяйству, наверное, останешься, а Танька — девка видная, на шее не засидится». Но вон видишь как?.. Я в техникуме еще замуж вышла, повезло: мы пришли с подругой в клуб, а Федор мой там на гармошке играл, да хорошо так играл! Ох… Вот и познакомились. Он — трактористом был, мог на любой технике, больше 20 лет он отработал в ДРСУ, себя не щадя. Девять лет как умер, не дожили мы до золотой свадьбы одного месяца.
— Любили вы его?
— Мы хорошо жили. Он не пьющий был. Не как у других. Не бил, ни-ни. Не гулял. Деньги в дом нес, слова поперек не скажет, нормальный муж, а чего еще надо-то? Мы нормально жили, хорошо, я, можно сказать, скучаю. Но скучать не приходится особенно, я уж привыкла: я всегда с народом, всегда в гуще людей. Одной только ночью, дома-то, одна. Раньше Генка, бывало, заезжал поночевать. А теперь вон что…
Галина Прокопьевна похлопывает рукой по псалтири. С видимым усилием подняв руку от псалтыри, задирает ее выше, замирает и потом осторожно гладит, словно проверяя, можно ли о него занозиться, гроб. Гроб, у которого мы с ней сидим, но в который стараемся не заглядывать. В нем очень белый, накрытый одеялом ниже пояса, лежит ее 23-летний внук Геннадий Разумеется, о гроб руки не занозишь: он обшит бархатом. Сверху, у головы Геннадия, белая плиссировка. А волосы у него черные. В первый момент мне показалось даже, что это у Геннадия на голове кокошник. Но просто так падал свет.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
За окном, громыхая, проезжает поезд. Трясется стекло, дребезжит, пугая притихшую было муху. До станции — я сошла на ней сегодня ранним утром и снова сяду около полуночи — идти меньше получаса от дома Галины Прокопьевны. Поезд стоит здесь одну минуту: длинную крутую лестницу выкидывают из вагона, и путешественнику надо успеть закинуть чемодан, подтянуться за поручни, забраться в вагон. Те, что сходят с поезда, — часто сперва сбрасывают на насыпь чемоданы, а потом сами спускаются, экономят так время и силы. Но поезд, что сейчас грохочет за окном, не останавливается: проходящий. Видимо, товарный, длинный. Едет и грохочет. И грохот его заглушает слова Галины Прокопьевны.
Когда поезд проходит, я слышу:
—…а Танька у нас такая красивая потому, что послевоенная. Она толстенькая была всегда, как булочка. Я в детстве ее не любила, потому что если не в школе, то Таня всегда на мне: ребята побегут купаться на речку, и я побегу, ее за руку держу. Под горку-то она сбежит, а в гору что хочешь, то и делай, заревет, сядет, не идет. А у меня силы нет тащить ее. В бане приходилось мыть. Сама еще, ребенок ведь, а приходилось за меньшим ребенком приглядывать — ухо востро! Но то уже послевоенное время было, счастливое… Хотя, если Таньку чем попрекнуть надо было, мы всегда ей: ты войны не видела, где тебе! Мы себя считали в сравнении с ней большаками, бывалыми. Хотя чего мне там помнить-то? Мне годик был, как война началась. Я с этого начала ничего вспомнить тебе не смогу, никакого нету у меня про это конкретного воспоминания. Вот один только отрезок войны хорошо вспоминается: у нас эвакуированные из Карелии жили, во время войны приехали, семья: мама, сын и дочка. Она маленькая была, годика, может, четыре. Сына звали Миша, он постарше меня был. И вот такая картина у меня перед глазами стоит: они у нас вот в этой прямо комнате с лучиной сидят, и я помогаю им держать ее, тогда ведь керосина-то не было. Вот лучиной светили. Корыто было деревянное такое, туда наливали воду, втыкали железку и в железку — лучину. Она, когда горела, угольки в воду падали и шипели, вот такое у меня воспоминание о войне.
Надо тебе такое?
Еще помню, что холодно было все время. Вот скажи мне — «война», я скажу — холодно и темно. Как будто не приходила весна в те года. Может такое быть? А память, вишь как, такое сохранила.
Я очень хорошо запомнила, как отец с войны пришел. 6 ноября 1945 года. Мы с братом на печи сидели, ноги поджав: опять же холодно было, а мы без обуток. И тут — стук в дверь. Страшно! У нас не принято тогда было стучать: заходили, здоровались и все. Мы шасть за трубу. А мама шила, что ли, у печи, не помню, и так замерла, голову подняла, вся натянулась струной. «Открыто», — говорит. И тут входит мужик, черная одежда вся, черная шапка, весь черный. Смотрим, мама шитье бросила и бежит к нему обнимает, значит хороший мужик, коли мама обнимает. А потом он нас с печи спустил, меня на одно колено, брата на другое… Сказал: всё, дети, война кончилась, и я ваш отец. Сразу тут у нас недалеко скотный двор был, коровник, прибежали доярки, женщины из села, кто плачет, кто как, потому что у кого-то погибли мужья, у кого сыновья погибли, все маме стали завидовать, а раньше же нас жалели, что мать без отца и бедность такая, и тяжесть. А тут уже зависть пошла, понимаешь?
Люто, люто завидовали, страшно по мужику голодали бабы в то время…
Всегда голодали.
Но тогда — особенно.
А отец же как выжил? Он служил на Балтике, на минном катере, мины, значит, возил. И в этот катер попал снаряд, катер разорвало, и все, кто там был, оказался в воде, отца контузило. Очнулся, говорит, а кругом тела плавают, у кого-то ноги нет, у кого-то руки нет. Одна там женщина, говорит, она там была как санитарка, так у нее живот разорвало, но она пока еще жива была, кричала. Ну а как ей поможешь? Война.
Война.
Понимаешь ты, война, она вон какая!
Отца и других живых — их там немного было, всего несколько человек, — подобрали другие катера. В госпитале за ним одна одинокая женщина ходила и выходила. Уж как там в точности было, я не знаю, но мне много лет уже после того писал один человек, что он — сын моего отца, то есть мой брат. Но я не отвечала. Мало ли что там было, нас это не касается. Тут по селу тоже слухи ходили, что отец то ту бабоньку пожалеет, то другую, но мать бровью не вела: мое. А что времена тяжелые, так всем всё понятно, и так и было. Делала мать снисхождение по этому вопросу ему.
А отец был очень красивый. Он на Балтике моряком служил и пришел — штаны клеш, черные. И я помню, знаешь, как он ходит в этих штанах, а я за штанину держусь. И такое счастье меня охватывает: отец! Не у каждого человека в моем поколении был отец, это понимать надо!

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ
Галина Прокопьевна смотрит на меня и улыбается.
Где-то в глубине ее дома хлопочут и топают чужие люди, монотонно режет время на выпуски новостей и рекламные блоки не знающий усталости телевизор. Галина Прокопьевна не слышит этого и не видит.
Она не видит ни комнаты, в которой сидит, ни мухи, которая снова прилипла к окну и успокоилась, ни гроба своего внука Геннадия, погибшего в Клещеевке в августе 2023-го года. Точную дату его смерти Галине Прокопьевне никто не сказал, потому что ее нет. Со слов сослуживцев, Геннадий подорвался на мине 4 августа, но некоторое время еще был жив и, перевязав ногу выше бедра жгутом, ждал эвакуации в лесу, где и умер от кровопотери.
Августовское солнце исступленно жарит сквозь стекло.
Душно.
Хочется встать, открыть окно, впустить свежий воздух и выпустить, наконец, муху.
Но я боюсь, это отвлечет Галину Прокопьевну и она перестанет со мной говорить. Или опять забудет, кто я, и все придется начинать с начала.
Ни на гроб, ни на внука Галина Прокопьевна не смотрит.
Перед ее глазами встают картины прошлой жизни:
«А после войны наступил совсем страшный голод, мы с братом весной ходили на колхозное поле картошку собирать мерзлую: она прозимовала, промерзла там, в земле, с того года еще военного, а как снег стаял — стало ее видно. И мы вот эти картошки сходим насобираем, мама намоет, в печку ставит в чугун, такой большой чугун, картошка сварится, она очистит кожуру, истолчет ее…. И вздохнет. Потому как такую картошку только бы молочком бы залить. А молока-то и нет!
— Не было коровы у вас?
— Корова-то была, но молоко всё мы сдавали государству, а нам давали обрат, это белая водичка, которая стекает, когда сметану от молока отделили. Вкус у обрата — ужасный, я на всю жизнь запомнила. Но мама этот обрат солила, еще воды добавляла… Опять вздыхала — муки бы добавить! Но муки нет. Она с картошкой эту воду мешала и клевера сушеного туда наталкивала, в колобки катала, и в печь. А мы-то все рядом крутимся ждем, скоро ли мама достанет колобки-то эти, поесть-то охота, охота поесть-то, ты же ребенок, ты же растешь! А поесть и нечего.
Нечего поесть.
Голод.
Ты понимаешь, что такое голод?
Куда тебе. И не надо. Другое время теперь, другое. А те колобки они такими вкусными мне казались…И до сих пор я тот вкус, вот как разговариваю, так мне кажется, до сих пор этот вкус помню. Поедим колобков этих, все. Голодно было, очень голодно.
— Как может быть голодно, когда корова своя?
— Ты дурная, что ли? Говорю тебе — отдавали государству молоко. И молоко, и яйца. И мясо… шкуру тоже себе нельзя оставлять, тоже сдай. Это все такой был нам от государства налог. Продуктами отдавали и деньгами тоже надо было добавлять.
— Вы как крепостные были, получается?
— Почему крепостные? Свободные. Просто надо было государству помогать, такая была у всех людей тогда в стране обязанность, чтобы встала страна с колен, чтобы поднялась.
Чтобы эффективность повысить, нас из совхоза в колхоз перевели, это другая система. Так государству удобнее: в совхозе деньги, в колхозе трудодни, в совхозе отпуска — в колхозе нету. День работаешь, вот трудодень тебе поставят. А на трудодень этот, один год так вышло — по одной копейке за трудодень. Так это выходит, если даже каждый день трудодень, 366 дней это 366 копеек. Много ли рублей? 3 рубля? Что на эти 3 рубля можно купить на семью. Но так все так жили, кто будет возмущаться-то? Надо было потерпеть, и мы это понимали, терпели.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
Надо было восстанавливать после войны хозяйство-то, мы не роптали. Мы, вот ты понимаешь, так воспитаны были или как, вот такая установка была, что надо помогать государству родному, поднимать хозяйство, надо государству это, это надо государству. И никто и не возмущался. Все сдавали, несли, все. Я и до сих пор если мне скажут: «Вот надо», — у меня нет такого — хочу не хочу, буду не буду, надо — значит надо.
— А хорошо это или плохо?
— Это патриотизм называется, не слышала ты такого? Я считаю, это хорошо. Это твой долг перед Родиной, перед государством. И это дисциплинирует человека, и это хорошо.
Мы дома никогда ничем не пользовались. Отец — фронтовик, герой, у него орденов вся грудь была, были даже диковинные, за службу в Тихом океане, это когда уже после войны против Японии воевали, добивали союзников нашего врага. Он ведь поэтому и вернулся только в ноябре, мы и не надеялись, ну, может, только мать…
Мать всегда его ждала.
Это такая наша женская доля: ждать, терпеть.
Нам на роду написано быть сильными и крепкими, потому что иначе кто же это выдержит все. Так-то ведь и мать свое счастье заслужила, получается: пришел отец, вернулся. Только три дома у нас было на все село, где мужчины вернулись. А чтобы со всеми конечностями здоровыми — так только наш отец такой был. Матери повезло, она не уставала благодарить за это.
Отец, я тебе говорю, ничем, никакими своими подвигами былыми не пользовался, он во всей своей красе, со всеми орденами только на 9 мая выходил: сядет на скамеечке с председателем, он тоже фронтовик, без ноги был, водочки выпьют, хлеб понюхают. И что-то сидят, на солнце щурятся, молчат. Никаких привилегий у нас не было, никаких пайков. Это мы сейчас советом села всех ветеранов, кто до 1932 года родился, ко Дню Победы поощряем: каждому по продуктовому набору рублей примерно на семьсот. Поняла? И на дни рождения поздравляем, и по программе «Последний путь» выделяем деньги от совета села, двенадцать тысяч, — это и в морг, и от морга, и хозяйственные.
Галина Прокопьевна похлопывает рукой псалтирь, призывая ее в свидетели расходам. Я хочу спросить Галину Прокопьевну, почему деньги на стариков они собирают селом, но не успеваю.
В комнату заходит человек и ставит к стенке крышку гроба и два венка. На одном написано: «Любимому сыну и внуку», на другом — «Склоняя головы, благодарим за мирное небо».

Фото: Андрей Чепакин / ТАСС
Галина Прокопьевна поясняет: «Это от военкомата из города прислали. Похороны все они оплачивают и администрация, мы не тратим ничего, такая им благодарность за это, молодцы! И венки тоже… И двадцать тысяч дали на поминки. Там бланк был в собесе, надо было выбрать, как писать: дорогому или любимому. Я как-то замешкалась. Матери его позвонила — не берет трубку. Она работает много, очень занята, она в Школе милиции на руководящей должности, в звании майора, понимаешь? Гордость такую дочь вырастить, да… Так о чем я?
Я тоже не понимаю, где мы потеряли нить беседы и спрашиваю:
— Вы — счастливы?
— Очень, очень я счастливый человек, — отвечает Галина Прокопьевна.
— А как же Гена?
— А Гена — это теперь навсегда боль, конечно. Но что же поделаешь, это долг. Долг каждого человека. Вырастет Виталька и за Гену отомстит.
— Это брат?
— Брат, брат, который поменьше, второй внук мой от дочери.
— Ему сколько сейчас?
— Семнадцать в октябре. Вырастет, пойдет, как брат, защищать Родину и всем нашим врагам отомстит. Да, сынок? — спрашивает Галина Прокопьевна гроб и вдруг, отпустив псалтырь, гладит по голове мертвого внука обеими своими желтыми руками. Говорит:
— Это такой долг, оборонять отечество свое от врагов, это нам всем на роду написано. Так всегда было — все на нас лезли, на Россию нашу, а мы — защищались. Мужики вперед шли, а мы, женщины, тут оставались и стерегли, стерегли, слезы свои выплакивали по ним, но двигали жизнь вперед и берегли тылы, это все для будущего… И мы должны нести эту ношу и гордиться.
— Чем гордиться?
— Россией, не понимаешь?
— Нет.
— А любишь ты Россию? Это же родина твоя, ты должна любить. Где родился — там и твое. И жить за Россию, умереть за нее, за свое Отечество любимое — в этом есть смысл и предназначение жизни каждого русского человека. Понимаешь ты это? Не чувствуешь? Ты не так чувствуешь?
Я тебе сейчас расскажу: у нас был случай в детстве с моей подругой одной. Мы четвертый класс закончили, к пятому готовились. И пока школа не началась, мы с Катей, ее как тебя звали, коней ходили пасти: такой загон в лесу, мать их кормила, а мы — пасли. А вокруг — страсть как много волков, а они не дураки: пока день и мать при нас — они боятся, а как ночь — подтягиваются, воют и дышат, дышат-то, господи, как громко! И вот мы с Катей раз от страха влезли на черемуху и песни пели. Дерево тоненькое, качается подо мной, а кони наши — жмутся к нему: жеребят в середину затолкали, а старшаки вокруг. А волки подступают. А мы орем песни, что есть мочи, а жеребята тпрукали, тпрукали, да притихли… И меня сердце зашлося: а ну как волки сейчас табун спортят…
Страх божий.
И тут знаешь что случилось? Взрослые кони враз встали: головы в центр, а зад наружу, один раз пнули, другой раз пнули, и волки ведь убежали!
Взвыли и убежали.
У-бе-жа-ли!
Отбили наши кони жеребят своих!
А мы с Катькой одна на одной черемухе, другая на другой, дрожали, кричали, голосили от радости, конечно. Вот так и сейчас…
— Что?
— Окружают волки Россию. А мы должны снова государю послужить своему, как многие разы служили. У меня, знаешь, есть какая мечта? Я хочу, до того, как умру, Путина Владимира Владимировича повидать. Так он мне нравится: подтянутый, умный, столько в нем заботы о нас, я его поддерживаю, я за него голосовала и снова бы проголосовала, если бы сейчас выборы были. Я считаю, что он правильную политику ведет, и ему пока альтернативы я не вижу. Вот когда Медведев его заменил, я возмущалась. Потому что Медведев — это не президент. Он на президента никогда и не был похож, на мужчину, понимаешь меня, не тянет! Нам до Путина не везло: то Горбачев этот меченый, то Ельцин — пьяный дурачок, у нас таких полсела умерли в 90-е от ацетона, а Путин как небо от земли от Ельцина отличается.
Он всегда подтянут, всегда опрятный. Четко выражает свои мысли и четко говорит, вот я и хотела бы руку ему пожать, поблагодарить. Я когда соглашалась с тобой говорить, подумала, может, через тебя получится, нет?
Галина Прокопьевна трогает меня за руку и смотрит в глаза, как будто я действительно могу решить проблему встречи с Путиным.
Я ищу муху, чтобы отвлечься. Я не знаю, как спорить с 84-летней женщиной у гроба ее внука. Я спрашиваю:
— Как думаете, за что погиб Гена?
— Так такая судьба. Долг выполнял. За нас погиб, за нашу будущую жизнь.
— Когда его мобилизовывали, вы могли сказать «нет»?
— Кому сказать?
— Военкомату, государству.
— Государству? А государству нельзя «нет» говорить. Это же если все будут с государством препираться, что будет? Хаос! А я хаоса не хочу. Я хорошую жизнь прожила, достойную. Мне есть чем гордиться. Я почетный гражданин села, между прочим. Мне в прошлом году ленту дали. Она там, за телевизором висит, я тебе покажу. Нет такого закона, что я хочу — так отпущу, а не хочу — так не отпущу Родину защищать. Кто защищать-то нас будет, если каждый будет на свой фасон государственные решения обсуждать?

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ
— А от кого защищать?
— От кого?
От кого?
От того, от кого скажут.
Такие вот дела. Ты зачем меня провоцируешь? Меня провоцировать не надо.
Ветер, разгулявшись, со звоном распахивает окно, сдувая муху, принося в комнату хоть какую-то прохладу.
— А то гроза будет? — спрашивает то ли меня, то ли ветер Галина Прокопьевна.
В комнату заглядывает вспотевший от хлопот парень с красными щеками:
— Прокопьевна, давай, пора. До дождя бы успеть.
Гроб, сидя у которого мы разговаривали с Галиной Прокопьевной, окружают женщины. Все неловко стоят. Кто-то всхлипывает. Галина Прокопьевна хлопает себя по коленям, легко встает, подхватив псалтирь. Стоя над гробом, говорит:
— Пора, Геночка! Прощай.
И закрыв рот рукой, плачет.
В комнату заходят мужчины. С их кроссовок на деревянный пол падает сухая грязь. Впереди гроба с Геннадием несут венки.
До кладбища можно дойти минут за пятнадцать. Но администрация выделила автобус. Все погружаются и уезжают, оставив в доме невыключенный телевизор. Там начинается детская передача, в которой ведущая скороговоркой задает детям интеллектуальные вопросы.
- Какую величину на Руси измеряли ведрами?
- Какая столица у ЦАР?
- Какое из этих животных не может высунуть язык из пасти: лев, носорог, крокодил, питон….
Действительно, какое?
Мелкими тихими каплями начинается дождь.
На меня в автобусе не хватает места, и я иду пешком на пригорок, под которым — река, на котором — кладбище.
Арендованный желтый автобус оживляет серый пейзаж. Люди в нем сидят, не выходят. Ждут, когда Галина Прокопьевна договорит по телефону.
Она энергично ходит перед автобусом взад и вперед, размахивая руками как крыльями. Разговор, наконец, окончен.
Галина Прокопьевна дает водителю автобуса знак, все выходят, из прямоугольного отсека в задней части автобуса вынимают Гену, мужчины кладут гроб с ним внутри на плечи. Когда все готово, к кладбищу подъезжает машина с надписью «Полиция», на переднем сиденье — женщина в черном платке. С заднего выходит священник. Женщина торопливо целует Галину Прокопьевну мимо щеки, куда-то в ухо: «Мам, еле вырвалась, по горло работы. Ну прости, прости. Ну пошли, пошли».
Пошли.
Пошли.
Давайте уже, пошли, — эхом разносится по кладбищу.
Все идут.
С приездом матери Геннадия все как-то ускорилось и, если можно так выразиться, систематизировалось: между голубых и черных оград люди организованно идут к центру кладбища, где уже готова коричневая дыра для гроба.
Геннадий будет подхоронен к деду, чей портрет в овале с явным интересом рассматривает нашу процессию.
— А отец где? — спрашиваю заплаканную женщину в малиновой кофте рядом.
— А кто его знат. На Север на вахту зарабатывать ездил, ездил… И в раз не вернулся, а Светка с пацанами одна осталась… Горе.
Вздох.
Вздох.
«Такая судьба».
Вздох.
У гроба скороговоркой выступил военный, обнял мать Геннадия и что-то вручил ей небольшое и прямоугольное. Она так и простояла до конца у могилы с этой коробочкой в руках, не зная, куда деть.
Потом говорила директор школы, где учился Геннадий, хвалила его за успехи в математике. Последним запел священник.
Когда начали бросать на гроб землю, дождь усилился.
— Это Господь по Гене нашему плачет, — сказала мне женщина в малиновой кофте.
Домой я возвращалась в машине «Полиция»: нашлось место между матерью Гены и священником, Галина Прокопьевна впереди.
Доехали молча.
Уже у дома священник спросил:
— А вы чей корреспондент?
— Наверное, правильнее будет сказать, что ничей.
— Так не бывает, — уверенно сказал священник, и мы вошли в дом.
Там уютно пахло свежей выпечкой, все суетились, ходили из кухни в комнату и обратно. Где-то в дальней комнате давал отбивку на вечерние новости невидимый телевизор.
— Седьмой час, — вздохнул священник, — как время бежит.
Женщины, каких не было на кладбище, суетились, накрывали на стол, выгнутый буквой «П» вдоль стен в комнате, где еще недавно сидели у гроба Гены только мы с Галиной Прокопьевной.

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ
Галина Прокопьевну в комнату под руку привела дочь, усадила на стул рядом с кучей хлама, прижатой к стене диском «Здоровья».
— Посиди тут пока, без тебя справимся. Отдохни.
За время похорон Галина Прокопьевна осунулась, устала и как будто постарела.
Невнимательными глазами следит за чужими людьми, хозяйничающими в ее доме.
Я сажусь рядом. Киваю на женщину в черном:
— А дочь у вас одна?
— Нет, еще одна есть, но с той мы… Ой, не хочу, не хочу об этом, — машет на меня рукой, как будто я та самая муха, что не давала покоя нам утром, — Я сейчас жалею, бывает, что больше не рожала. Врачи говорили, опасно: три аборта у меня, два кесарева, а я всегда на ногах, на руководящей, сама понимаешь. А теперь жалею… Детей больше должно быть, чтобы заместо нас тут оставались, чтобы укоренялись мы тут, назло врагам.
— Верите во врагов?
— А что мне в них верить? Я точно знаю. И президент говорил, и в новостях говорят, и у нас теперь свое есть, персональное горе: наш внук Геннадий погиб, защищая нас от врагов, от наступающей на нас НАТО, которой мы все… которой богатая и сильная Россия поперек горла, для которой возрождение наше, достаток наш — смерть. И вот такие, как Геннадий, внук мой, сложили головы, защищая наш покой и мирное небо над нами.
— А если окажется, что это не так?
— А ты кто такая, чтобы в моих словах сомневаться?
Я не отвечаю. Становится очень тихо. И даже телевизор не заполняет этой образовавшейся тишины.
Галина Прокопьевна проводит руками по коленям: шуршат по юбке зацепки на ее могучих руках.
Галина Прокопьевна смотрит мне в глаза и говорит:
— Ты давай уходи отсюдова. Ты кто такая, чтобы сомневаться? Я жизнь положила, я такую жизнь прожила, меня люди уважают, у меня отец ветеран, внук на фронте погиб, а она… а ты…
Ты зачем этими провокациями занимаешься? Уходи, уходи, в такой, надо же, момент … Я тебе поверила зряшно, мне все говорили, не надо чужих в дом пускать в такой момент, это все происки, провокация. Уходи, не хочу тебя видеть. *******! Хватит. Наговорились. Ничего ты не поймешь.
Я проталкиваюсь между людей, которых теперь много в доме Галины Прокопьевны, ищу сумку и кроссовки, я хочу быстро и незаметно уйти. В сенях сталкиваюсь с матерью Геннадия.
— А вы вот ехать будете, помяните Гену нашего… Невинно убиенного раба Божиего Геннадия, — говорит она, протягивая полный пакет пирожков.
Добавляет: это с капустой.
С пакетом в руках я сижу на станционной лавке и жду поезд. Над лесом всходит и забирается в самый зенит неба кособокая луна.
Приходит поезд.
Из багажа у меня только пирожки, и вскарабкаться по лестнице мне легко. Я сажусь на полку в своем купе. И кладу на стол пирожки.
— Господи, как вкусно пахнут, — говорит моя попутчица, — как у бабушки. А у меня вино есть… Домашнее. Из-под Новороссийска. В Москву дочке с зятем везу. Не хотите? Можем немного вместе выпить и вашими пирожками закусим, как в детстве?
Поезд мчит.
Стучат колеса.
Стучат.
Стучат.
Мелькают фонари.
Стучат.
Мост через реку.
Стучат.
Просека.
Стучат.
Плохо освещенная деревня.
Луна.
Я ем пирожки с капустой памяти Геннадия и пью сладкое и очень пьяное домашнее вино из-под Новороссийска. Попутчица говорит.
Этот материал вышел в пятнадцатом номере «Новая газета. Журнал». Купить его можно в онлайн-магазине наших партнеров.
* Внесена властями РФ в реестр «иноагентов».
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68