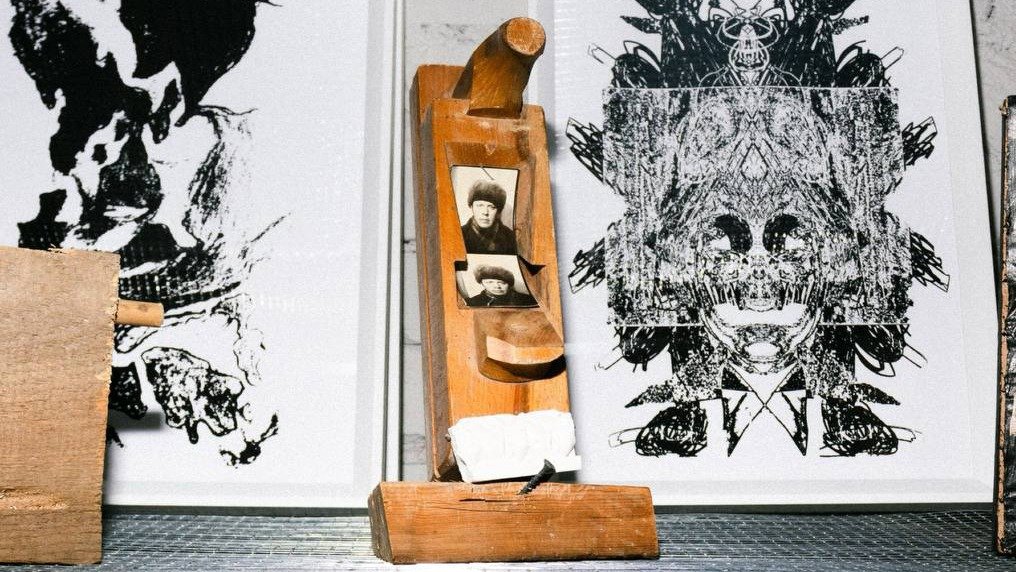Шелк и бархат, украшенные стразами и бисером, роскошные платья и обувь от самых известных кутюрье, сверкающий «бьюик» — на время выставки пространство эрмитажного Манежа превратилось в блестящую обложку модного журнала. Но за этими блеском и роскошью практически не просматривается реальность эпохи «последнего большого стиля», как называют это явление историки искусства, — экономическая депрессия, нищета, безработица, массовые забастовки и социальные бунты, поднимающий голову нацизм и близость катастрофы Второй мировой войны.
Эрмитажная экспозиция приурочена к 100-летию Международной выставки современных декоративных и промышленных искусств (Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes), проходившей в Париже весной и летом 1925 года. Позже ее сокращенное название начали использовать как термин, обозначающий новый стиль — ар-деко (арт-деко). Для Советского Союза участие в этой выставке было знаменательным событием: меньше чем за год до этого между СССР и Францией были установлены дипломатические отношения, Страна Советов впервые «вышла в свет» и представляла свои достижения на международном форуме. Советский павильон в Париже был построен в духе конструктивизма по проекту архитектора Константина Мельникова, автора первого саркофага для тела Ленина, которое хранилось в нем до эвакуации в Тюмень.
«Большой стиль», как его называли изначально, или ар-деко, — порождение эпохи между двумя войнами, «interbellum» (в переводе с латыни — «между войнами»). Эпоха джаза, безумных вечеринок в стиле «Великого Гэтсби», возникновение «фабрики грез» Голливуда, время роскошных автомобилей, клубов, гигантских небоскребов и океанских лайнеров — все это ар-деко. Самые известные романы Олдоса Хаксли, Эриха Марии Ремарка, Скотта Фицджеральда, Ивлина Во, Вирджинии Вулф, Хораса Маккоя («Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?») — тоже эпоха ар-деко.

Фото: Наталья Шкуренок
Основу выставки в Манеже Малого Эрмитажа составляет собрание Назима Мустафаева, известного коллекционера, владельца крупной коллекции обуви и платьев в стиле ар-деко, основателя виртуального музея обуви Shoe Icons. Мустафаев коллекционирует обувь больше двадцати лет, в его собрании есть уникальные предметы, которых нет даже в Институте костюма Метрополитен-музея и в Музее Виктории и Альберта. Сейчас в его коллекции более 2500 пар обуви и сотни костюмов разных эпох, которые он нередко показывает в различных экспозиционных пространствах.
Эрмитаж не только предоставил свои залы под демонстрацию чужих коллекций, но и сам принял активное участие в формировании экспозиции: рисунки Анри Матисса, литографии Рауля Дюфи с изображениями парижских модниц, графика Эрте (Роман Тыртов) — все это дополняет представление об эпохе «последнего великого стиля XX века». Как и живописное панно Жоржа Барбье «Царица ночи» и двухметровая акварель Сони Делоне.
Центральное пространство Малого Манежа в Эрмитаже напоминает огромный магазин дамского платья и обуви (так и слышатся известные строчки из романа Булгакова «Мастер и Маргарита», когда Гелла в варьете приглашает зрительниц на сцену: «Герлен, шанель номер пять, мицуко, нарсис нуар, вечерние платья, платья коктейль…»).

Фото: Наталья Шкуренок
И одновременно это кинопавильон одной из студий Голливуда, где идут съемки фильма об эпохе ар-деко (куратор выставки — заведующая сектором прикладного искусства отдела истории русской культуры Эрмитажа Нина Тарасова, дизайнеры — Эмиль Капелюш и Юрий Сучков). Экспонаты представлены без витрин, разделены на группы, и каждая занимает отдельный участок-остров как самостоятельная композиция. На полупрозрачные экраны, разделяющие композиции между собой, проецируются сцены из немых фильмов.
В полумраке главные предметы экспонирования — платья, туфли, аксессуары — смотрятся особенно выигрышно. Знаменитые бисерные платья, похожие на ярких тропических бабочек, переливаются в свете направленных на них софитов. На выставке представлены наряды от самых известных модельеров Европы и Америки — Жанны Ланвен, Поля Пуаре, Эдварда Молино, Люсьена Лелонга, Мариано Фортуни. Фортуни — настоящая легенда дизайна начала XX века: его шелковые плиссированные туники «дельфосы» стали настоящими хитами еще до Первой мировой и остались на вершине моды до конца 30-х годов. В Эрмитаже показаны два его платья, шелковое и бархатное, вместе с туфлями, выполненными из тех же материалов.
На выставке в Эрмитаже можно увидеть обувь знаменитых мастеров первой половины XX века. Таких, как Андре Перуджиа, который сотрудничал с ведущими модельерами своего времени. По эскизам этого дизайнера шили обувь в мастерских Поля Пуаре, Эльзы Скиапарелли и многих других ведущих домов моды. И, конечно, невозможно пройти мимо обуви самого дорогого обувщика в мире, как называл себя Пьетро Янторни, — две пары лодочек из синего шелка были сшиты мастером вручную.
Большая витрина с каблуками приковывает внимание разнообразием отделки. Еще в конце XIX века для украшения женской обуви стали использовать целлулоид. Он легко поддается окрашиванию органическими красителями, тиснению, он способен имитировать слоновую кость, перламутр, коралл, янтарь, фарфор, бронзу, малахит и черепаший панцирь.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68

Фото: Наталья Шкуренок
Рядом с витриной каблуков можно увидеть и отечественную, советскую обувь 20–30-х годов, которая очень похожа на самую модную европейскую, но полностью уступает ей в отделке. Такие туфли шили и на известной ленинградской фабрике «Скороход».
На выставке в Эрмитаже показаны не только предметы из коллекции Назима Мустафаева: значительную часть модных аксессуаров того времени предоставили для показа коллекционеры Ирина Углинская, Павел Карташев, Вадим Полубоярцев. О серьезном влиянии традиционного искусства Японии и Китая на культуру Европы посетители узнают из собрания японских кимоно и аксессуаров в китайском стиле московского коллекционера Натальи Бакиной. И, конечно же, самый габаритный и заметный экспонат — «бьюик» модели 44 (Buick model 44 series 121 Sport Roadster), купленный в 1929 году заместителем наркома авиационной промышленности Михаилом Ивановым во время командировки в США. Машину представил на выставку Музей техники Вадима Задорожного. Сверкающий никелем и хромом автомобиль из голливудских фильмов — символ респектабельности и американского стиля жизни.
Блестящая, как стеклянный шар под потолком дансинга, выставка в Манеже Малого Эрмитажа, безусловно, привлекает внимание и пользуется популярностью у посетителей музея. Но за всем этим блеском и роскошью практически не виден социальный и исторический контекст.

Фото: Наталья Шкуренок
Впрочем, авторы попытались его представить: вдоль стен зала идет хронологическая лента реальных событий 20–30-х годов с цитатами из Ремарка и Фицджеральда, фотографиями, афишами кино, обложками модных журналов.
Преимущественно это события из мира искусства, моды с редкими намеками на их социальный характер. Один из таких намеков — картина «Проститутка» Вернера Шольца из собрания Эрмитажа. Но проституция существовала во все времена, а не только в 20–30-е годы прошлого века. Хотя если бы авторы и кураторы экспозиции действительно хотели показать исторический контекст, на фоне которого расцветал стиль ар-деко, они могли бы рассказать о колоссальном экономическом кризисе, который захлестнул мир в конце 20-х годов, — миллионы людей были разорены, выброшены на улицу, голодали. Европа тонула в забастовках и столкновениях между крайне левыми и националистическими фронтами, порожденных страхом перед наступавшим фашизмом. В Стране Советов к этому времени уже была сформирована система исправительно-трудовых лагерей, а в сфере искусства и культуры в начале 30-х годов на государственном уровне был утвержден единый для всех творцов стиль социалистического реализма. Об этом скромная хронологическая лента событий на стенах эрмитажного зала тоже умалчивает.
Финальные цифры,1933 год, говорящие о приходе к власти Гитлера, утоплены в пол и видны лишь наполовину — это, вероятно, символизирует конец эпохи ар-деко в Германии.
При сегодняшнем положении дел в стране понять страхи и опасения эрмитажных кураторов можно. Но странно, почему они не используют богатую историю уже представленных на выставке экспонатов. Например, здесь выставлен триптих «Борьба и смерть товарища Эгльгофера» немецкого экспрессиониста Генриха Эмзена. Дело в том, что этот триптих был заказан Эмзену советским правительством во время девятимесячного путешествия художника по СССР в 1932 году. Предполагалось показать картину в 1933 году на масштабной агитационной выставке «15 лет Рабоче-крестьянской Красной Армии». Скорее всего, как это было принято в Стране Советов, художнику дали четкие указания, как нужно трактовать сюжет, как изображать персонажей. К сожалению, эту историю авторы экспозиции тоже не рассказывают.
Безусловно, очень расширила бы социальный контекст и история с «бьюиком», выставленным в зале. Это не просто дорогая машина, которую в 1929 году привез из командировки в США нарком авиационной промышленности Михаил Иванов. Да, он ее привез, но после возвращения в СССР товарищ Иванов спрятал автомобиль в гараже на своей даче, и до 1973 года он ни разу не покинул гараж. Как же надо было бояться своих соседей, друзей, коллег, да и всей своей страны, чтобы ни разу не прокатиться в сверкающей машине по улицам столицы! Вот уж воистину надежно «упакованные грезы».
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68