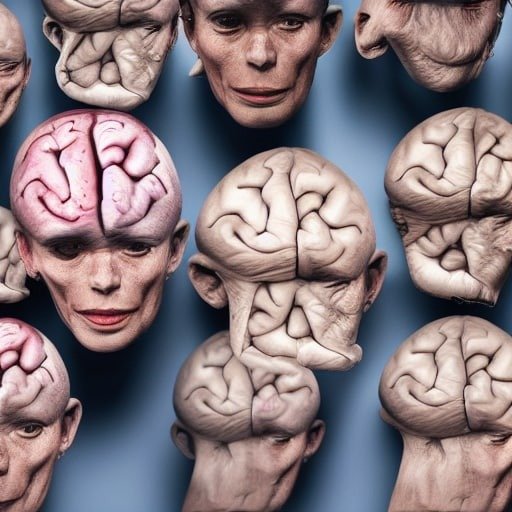Как-то у нас само собой разумеется, что мы — самый лучший народ в мире. Я русская с примесью украинцев и немцев. Конечно, у меня есть национальность, с детства ее знаю, для меня «мы» — это русские. В советском паспорте было написано «русская». Почему-то заглавными буквами, как будто нажали Caps Lock (хотя паспорта тогда заполняли от руки). Позже, когда познакомилась с социальной психологией, узнала, что людям в большинстве свойственно приписывать собственному народу хорошие качества. Свой народ особенно добрый и порядочный, особенно талантливый. Свой язык особенно богатый и красивый, свои женщины тоже особенно красивые. Все свое — лучшее.
Про своих и чужих
Почему? Прежде всего, человеку важно принятие и принадлежность, важно относиться к какой-то группе, быть в ней своим. И, конечно, важно верить, что своя группа хорошая, чтобы в ней было комфортно. Первая «своя группа» в жизни человека — родительская семья. Ожидается, что она будет для нас безопасной, любящей и поддерживающей, а родной дом будет уютным и надежным пристанищем.
Если это так и есть, человек любит родную семью и дом, любит туда возвращаться. Даже те, кому с родной семьей не повезло, в жизни продолжают искать другую, хорошую, какую хотелось бы иметь. Сами вступают в брак, рожают детей. Находят для себя компанию друзей. Предпочитают работать в коллективах, где им комфортно. Для человека прообраз всех значимых групп, всех «своих» компаний — родительская семья. Внутри, «в родных стенах», — свои, за их пределами — чужие. Может, даже симпатичные люди, но — не такие.
Вы можете радоваться приходу гостей, но расслабиться после их ухода, когда рядом останутся только свои.
Чужие люди, гости могут ненароком поставить обувь в неположенном месте или по ошибке взять мамину чашку вместо чашки для гостей. Когда мы сами в чьем-то доме — чужие, нам не так комфортно, как у себя дома. Даже если хозяева милы с нами, мы не «здешние», здесь действуют чужие правила, и надо прислушаться к хозяевам: куда поставить обувь и какую чашку можно брать. Какие-то чужие дома, может быть, хороши, но свой дом — дороже всех, потому что свой. Мы много лет его обживали.
Когда к вам на работу приходят люди, не работающие в вашей организации, они — «гости», они пришли в ваш «дом». Когда вы встречаетесь где-нибудь на конференции с коллегами из других организаций, вы — как люди из разных «семей». Вроде понятно: свои нам ближе и симпатичнее, потому что они свои, а не потому, что они в действительности лучше всех. Но как-то однажды становится истиной, что они обязательно в действительности лучше.
Идет межшкольный смотр художественной самодеятельности, две учительницы сидят в зрительном зале, смотрят выступление учеников другой школы. Одна говорит: «Так и кажется, что в нашей школе дети красивее». Другая отвечает: «А это не кажется, это так и есть». Просто однажды начинаешь видеть, что «это так и есть».
И еще у нас есть очень большой дом — родная страна. И очень большая семья — собственный народ. Люди другой национальности, приехав к нам, могут показаться бестолковыми, потому что они не знают обычаев. Так же, как неловкий гость не знает «обычаев» в чужой семье: куда поставить туфли, из какой чашки можно пить.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
«Американцы? Они же тупые!»
Я никогда не любила Задорнова. Но долгое время думала, что его любимые шутки про тупых американцев все так и воспринимают как шутки. Оказывается, совсем не обязательно. И вот уже знакомая (кстати, с высшим образованием) всерьез спрашивает: «А они правда тупые? Мне говорили, что правда». То есть однажды люди начинают думать, что это им не кажется, что «это так и есть».
Свой язык для тебя богаче, потому что ты его лучше знаешь. Но однажды люди начинают думать, что он богаче объективно. Что «это так и есть».
«А что, в английском языке есть синонимы?» Боже мой, конечно, есть. В языках вообще есть синонимы. Но чуть ли не каждый знает, что якобы английский язык бедный, а русский — богатый. Что у нас, дескать, много слов с одним значением, а в других примитивных языках, вроде английского, только одно слово — одно значение. А, ну-ну…
Так много людей верит в бедный английский язык! Вопрос к читателям: кстати, а вы знаете, что это неправда? И ведь легко понять, как это получается. Скажем, я знаю английский. Я могу на нем сказать все, что хочу. Если какое-то слово не знаю или забыла, объясню, что имею в виду, другими словами. Но на русском-то я могу сказать не просто то, что хочу, но и как хочу! Одно и то же разными словами, чувствуя оттенки значений. Если мое личное владение русским намного богаче, чем владение английским, это совсем не значит, что русский язык сам по себе настолько же богаче английского. Но людям легко начать видеть, что «это так и есть». И чем хуже знаешь английский, тем это для тебя оказывается очевиднее.
Люди не замечают, что в этом кроется шовинизм. Потому что думать, что свой язык особенно богатый, — это ведь тоже верить в превосходство своего народа. Это значит, что «они» не такие сложные и внутренне богатые, как мы, если говорят на языке, который и знать-то нечего. Значит, у нас более сложная и утонченная душевная организация, потому что она находит выражение во всем многообразии средств богатейшего языка. (Но… Скажу жестокую вещь: человеческие языки вообще богаты.)
Про идентичность. И при чем тут наши достоинства
Видя, чем мы отличаемся от других людей, мы все отчетливее осознаем, какие мы сами. Есть у человека такая вещь — идентичность. Это его ответ на вопросы: «Кто я?», «Какой я?»
Некоторые ответы мы знаем с детства: «Меня зовут Данил. Мне шесть лет». Данил знает, что он — мамин и папин сын, бабушкин и дедушкин внук, брат маленькой сестры. Подрастая, ребенок может сказать о себе все больше. Он — житель такого-то города. Такой-то страны. Ученик такого-то класса, такой-то школы. Футболист. Взрослый Данил скажет, что он — выпускник университета, по образованию — инженер-электрик, по профессии — IT-специалист. Он — муж и отец сына и дочки.
Все это — составляющие идентичности, ответы Данила на вопрос, кто он.
У нас есть много ответов на вопросы, кто мы и какие мы. Некоторые ответы не вызывают в нас сильных чувств. Но другие — вызывают. Иногда сообщение даже простой информации о себе заставляет смутиться. Кто-то может стесняться своего немолодого возраста. А кто-то называет свой возраст с удовольствием. Это — жизненный опыт, мудрость. Кто-то стыдится того, что родился в селе. А кто-то любит родное село, всю жизнь его рисует, размещает картины в интернете. Кто-то гордится своими родителями, кто-то своих родителей стесняется.
«Дюруа, крайне смущенный, замялся:
— Но… дело в том, что они… — Затем, внушив себе, что надо быть мужественным, решительно заговорил: — Дорогая, они крестьяне, содержатели кабачка, они из кожи вон лезли, чтобы дать мне образование. Я их не стыжусь, но их… простота… их… неотесанность… может неприятно на вас подействовать».
(Ги де Мопассан. «Милый друг»)
Кому-то нравится его национальность, он с удовольствием расскажет о своем народе, если вам интересно. Научит вас что-то говорить на своем языке. А кто-то своей национальности стыдится и чувствует себя неловко, когда о ней спрашивают. Кому-то стыдно назвать свой рост в сантиметрах или вес в килограммах. Кто-то же сообщает о своих параметрах с гордостью. Один стыдится своего имени или фамилии, другой обидится, если его фамилию не спросили. Человек может ожидать, что какие-то стороны его идентичности люди оценят, как хорошие или плохие.
Но вернемся к ребенку. Он растет, умнеет, взрослеет, и с идентичностью становится все сложнее. А какой человек именно ты? Какие у тебя вкусы? Интересы? Взгляды? Убеждения? Нравственные, религиозные, политические? И так далее. Растущий человек все лучше осознает, какой он есть (например, с хорошими способностями к точным наукам) и в чем его выбор (например, политические убеждения выбирают). Здесь мы начинаем всерьез определяться со своей идентичностью, с тем, какие именно мы.
Бывают обстоятельства, когда человеку в его обществе становится небезопасно, если узнают его национальность. Или сексуальную ориентацию. Или вероисповедание. Или взгляды, если он начнет рассуждать о политике. Есть составляющие идентичности, которые могут вызвать неприязнь, сделать изгоем или даже вызвать у собеседников агрессию, являясь особенно сильно эмоционально нагруженными. В каких-то случаях это опасность, но часто — стыд.
«— Вы не американец? — спросила девушка.
— Heт, немец.
— Tepпеть не могу немцев.
— Я тоже, — согласился я.
Она взглянула на меня c изумлением.
— Я не говорю o присутствующих.
— И я тоже.
— Я — француженка. Вы должны меня понять. Boйна…
— Понимаю, — сказал я paвнодушно».
(Эрих Мария Ремарк. «Teни в раю»)
Бывает, что человек начинает гордо демонстрировать ту сторону своей идентичности, которая может вызывать неприязнь. В психологии человека противоположности друг к другу ближе, чем золотая середина. Например, застенчивому подростку легче, набравшись храбрости, повести себя вызывающе, чем спокойно и уверенно. Вызывающее поведение — противоположность стыда и неловкости, но то и другое — стороны одной медали. Уверенность говорит о здоровой самооценке человека. Застенчивость может говорить о низкой. Бросать вызов — это как будто о завышенной, но за ней часто тоже скрывается низкая.
Кстати, о самооценке. Насколько высоко человек сам себя оценивает? Конечно, гордиться собой или стыдиться себя — это про самооценку. В детстве наша самооценка формировалась под влиянием того, как нас оценивали другие люди. Став подростками, мы начали задумываться: а насколько мы сами себе нравимся? Так как у подростков и идентичность, и самооценка еще продолжают формироваться, они активно привлекают к себе внимание и, конечно, получают отклики. Выходит девушка из подъезда с новой татуировкой, своим знаком зодиака. Старушки крестятся, другие подростки с интересом разглядывают, расспрашивают. Ровесникам она свою новую татушку демонстрирует с гордостью. А мимо старушек старается побыстрее тихонько проскользнуть, чтобы ничего им не объяснять.
Обратная сторона гордости — стыд. Если человек ведет себя вызывающе, демонстрируя напоказ свою гордость, скорее всего, такая гордость — защита от стыда. Также людям часто становится стыдно, когда их хвалят. То есть когда говорят о том, чем они могли бы гордиться.
«— Ты красив, ты воспитан…
— Да, я воспитан, — прошептал я, едва переводя дух. Сердце мое колотилось и, конечно, не от одного вина.
— Ты красив».
(Ф.М. Достоевский. «Подросток»)
Что такое нарциссизм
Теперь представьте человека, которого больше всего волнует его собственная значимость и который постоянно ждет от людей подтверждения того, что он замечательный, необычный, во всем их превосходит, и т.д. Потому что и гордость, и стыд он чувствует особенно остро. И от стыда бежит в гордость.
Все мы хотим, чтобы нас уважали и ценили, огорчаемся, если нас критикуют, можем почувствовать стыд, если оказались «не на высоте». Если эти переживания становятся главными в жизни человека, если он больше всего беспокоится о том, чувствовать гордость, а не стыд, то такого человека называют нарциссичным.
Разговаривая с вами, нарциссичный человек дает вам понять, что он прекрасен и восхитителен. И при этом он ненавязчиво (или даже навязчиво) будет вам показывать, что вы-то не так хороши. Чтобы гордиться мог он, а неловко, стыдно стало вам. Потому что он сможет чувствовать себя замечательным, если кто-то другой будет никчемным.

Фото: Виктор Драчев / ТАСС
А что у него с самооценкой? В действительности тот, кто по-настоящему себя ценит, не нуждается в постоянном утверждении своего превосходства над другими людьми. Грандиозного нарцисса часто ошибочно считают человеком с высокой самооценкой. Но с ним не все так просто.
Здоровая самооценка основывается на стабильной и интегрированной идентичности. Попробуйте ответить на вопрос: какой вы человек? Можете ли вы немного о себе рассказать: назвать черты своего характера, ваши убеждения, ценности, предпочтения? Если вам это удалось, и вы сочетаете в себе здоровое самоуважение с трезвой самокритикой, знаете как свои «плюсы», так и свои «минусы», то можно предположить, что вы хорошо себя знаете, и ваша идентичность достаточно стабильна. Если у вас нет достаточно стабильной идентичности, вы толком не знаете, кто вы, и тогда вам постоянно нужно слышать об этом от других. В этом случае ваша самооценка зависит от того, что про вас скажут другие люди.
У некоторых людей самооценка постоянно «летает» вверх-вниз, потому зависит от успеха, от откликов окружающих. Критикуют — плохой, хвалят — хороший. У людей-«нарциссов» самооценка как раз такая, и чтобы она не обрушилась, они постоянно поддерживают ее, стремясь получить признание и восхищение окружающих.
Как только они перестают получать такую «подпитку», самооценка обрушивается, и они чувствуют себя ничтожествами.
Это связано с постоянным стрессом, тревогой (как бы самооценка не пошатнулась), погоней за людьми, способными подкормить их самолюбие, отвержением тех, кто может поставить нарциссическое самовосприятие под сомнение. Короче, жизнь и человеческое общение во всем их многообразии их пугают, на каждом шагу угрожая самооценке. Понятно, что среди нас нет человека, который всем нравится или которым все довольны. В жизни мы время от времени получаем от других людей как позитивные, так и негативные отклики.
Иногда мы удивляемся, если человек вдруг вышел из себя и обрушил на нас поток гневной ругани или холодную убийственную критику, когда, кажется, ничто не предвещало конфликт. Это так называемая нарциссическая ярость. Просто мы его оценили недостаточно высоко или высказали небольшое замечание, или не заметили в нем чего-то выдающегося, или похвалили кого-то другого. Или (ужас!) заметили что-то забавное.
«Казалось, Мэри Поппинс стала вдвое выше.
— Взорвалась? — повторила она с яростью.
— Я взорвалась и вылетела из ракеты?
Майкл вжался в подушку.
— Но выглядело это именно так! Правда, Джейн?
— Тсс…»
(П. Трэверс. «Мэри Поппинс»)
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
«Нарцисс» идеализирует себя и обесценивает других, делит людей на немногих стоящих и большинство никчемных. Соответственно, вас такой человек может сразу обесценить. Или он вначале будет вас идеализировать, потому что ждет от вас восхищения и подтверждения собственной высокой значимости и уникальности. Если эти ожидания не оправдаются, он вас обесценит. Возможно, за этим последует всплеск нарциссической ярости.
Стабильная идентичность и достаточно ясное представление о самом себе помогают без страха встречаться с разными ситуациями в отношениях с другими людьми, с удачей и неудачей, лицом к лицу. При встрече с заслуженным комплиментом или заслуженной похвалой принять их без ложной скромности (ведь в таком случае мы знаем, что это достоинство или эта заслуга действительно имеется). При встрече с критикой оценить ее. Возможно, она несправедлива. Что ж, обидно, но это в действительности не про меня. Или критика справедлива. Что ж, неприятно, но действительно была неправа, и тогда могу извиниться. При этом я остаюсь в целом достойным человеком. В общем, важно перестать гоняться за ситуациями и людьми, способными «поднять самооценку», потому что самооценка — не снаружи, а внутри человека. Она не в чужих руках, а в нашей голове.
Когда человек всю жизнь носится со своим величием, превосходством над всеми вокруг, совершенством и непогрешимостью, мы понимаем, что этот человек не очень-то уважает и ценит себя, поэтому набивает себе цену. А когда это делает народ?
Нарциссизм индивидуальный и коллективный
Существует ли коллективный нарциссизм? Конечно. И тогда группа или целое общество начинает воспринимать себя, как воспринимает себя нарциссичный человек.
В общении самая заметная отличительная черта человека-нарцисса — грандиозность. Он высокомерен и преподносит нам себя как совершенного. Или по крайней мере более совершенного, чем собеседник. Поэтому он не признает свои слабости, плохие поступки или неудачи. Все это случается с другими, но не с ним. А если народ признает за собой только все самое лучшее в прошлом и настоящем? Помню, как мы в советской школе учили историю СССР, в которой Великая Отечественная была, а ГУЛАГа не было.
«Неудобное прошлое» (как мы его стали называть с легкой руки Николая Эппле) — уже принятая формулировка, когда речь идет о нашем на самом деле трагическом прошлом. С одной стороны, эта формулировка очень меткая. Говорить об этой части прошлого неловко, стыдно, потому что она не вписывается в прекрасную картину Советского Союза (того абсолютно достойного и славного прошлого), которую нам рисовали. Но это — нарциссический аспект. А с другой стороны, «неудобное» прошлое, перемалывавшие человеческие жизни и судьбы жернова репрессий, — не какое-нибудь жалкое или нелепое. Оно ужасающее.
Действительно ли здесь главная угроза — стыд, а не то, что нас накроет волной ужас и сострадание? Может, поэтому многие люди стараются с плохим прошлым страны не соприкасаться? Все-таки если выбирать между ужасом и стыдом, стыд — что-то более выносимое… Или нет?
Конечно, нарциссизма в советской культуре было немало. Советский Союз считал себя лучше всех стран на свете.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
И наше прошлое было самым достойным в мире, и наше советское настоящее. Кстати, это представление пережило Советский Союз. Многие люди, которые никогда там не жили, знают рассказы о прекрасной стране, которую мы потеряли. Дело, конечно, в том, что именно им говорили про эту страну. Или — чему они поверили.
Вы помните, что «нарцисс» не может видеть в себе просто человека, у которого в прошлом и настоящем можно найти и хорошее, и плохое. Если бы он признал в своем прошлом или настоящем что-то плохое, для него это значило бы признать себя совсем плохим. Если бы он признал свой промах, это значило бы признать себя совсем никчемным. Если бы он однажды посмеялся над собой, это бы значило признать себя совсем жалким и смехотворным.
Когда общество нарциссично, оно не может видеть свою страну и народ просто страной и народом, с достоинствами и недостатками. Это должна быть лучшая в мире страна и лучший в мире народ. И вот сейчас мы снова пришли к нарциссичному обществу. Во многом как в СССР, хотя и не совсем.
Кстати, от советского человека ожидалась скромность. Личная гордость и амбициозность не поощрялись, и человеку с амбициями указывали на его поведение, говорили, что надо быть скромнее. А что он такое по сравнению с огромной, могучей, великой и славной страной? Советский идеал человека — личная скромность и групповой нарциссизм. Идеал, типичный для тоталитарного общества.
Ну и что это давало советскому человеку? Имел ли он от этого свою выгоду? Ведь государство отнимало заслуги своих граждан (как в прошлом страны, так и в ее настоящем) и присваивало их себе. И если в Советском Союзе кого-то прославляли как героя, то подчеркивали: он жертвовал собой ради страны, совершал подвиг, чтобы прославить страну.
«Есть у нас, у советских ребят,
Нетерпенье особого рода —
Совершить все мальчишки, девчонки хотят
Гордый подвиг во славу народа».
(К. Ибряев)
Конечно, советскому человеку это было по-своему психологически выгодно. И современному россиянину это тоже выгодно. Мы знаем, что с самооценкой у многих людей «все сложно». И тут тебе придает ценности и значимости просто то, что ты — представитель великого народа, гражданин величайшей в мире страны. «Вот, — думает гражданин, — человек я простой. Чем похвастать-то? Не знаю. Но я — русский!» (Спасибо Шаману, не даст забыть.) Когда людям недостает собственной оформленной, цельной идентичности, которая позволяла бы себя хорошо знать и уважать, идеализация своей группы и идентификация с этой группой становится просто спасением для самооценки.
Однажды под своим постом в интернете на эту самую тему получила в ответ много рассуждений, из которых видно, как дорого нашим людям представление о величии своей Родины:
— Россия — самая большая по территории страна мира. Большая и великая, таким образом. Если рассматривать не сегодняшнюю ситуацию, а период в несколько столетий, можно найти и другие признаки величия. Великая держава в мире не одна, их много.
— Золотые слова! Часто идет подмена понятия «великая» на «величайшая». Великих — много. Величайшая — одна, наверное.
— Россия во многом — великая страна! Но нельзя говорить так, что она — «страна всех стран». Вот Уганда, например, не великая ни разу. Ну или Сомали. Но вот США или Китай — велики по-своему.
— Мало стран, которые могут делать и запускать в космос ракеты. Мало стран, имеющих ядерное оружие. Мало стран, которые могут построить АЭС. Те, которые могут, в числе великих.
— Когда произносят слово «великий» по отношению к стране или народу, за этим, по-моему, стоит больше, чем умение делать ракеты, бомбы, танцевать балет, и т.д. Здесь подразумевается наличие миссии, особого пути, имеющего всепланетарную и историческую ценность. Тут в качестве доказательств больше подойдет «мы защитили мир от фашизма» или «мы храним православие как истинную веру». Беда подобных свидетельств, помимо больших исторических натяжек, в том, что они обращены в прошлое и не дают ответа на вопрос, какая же миссия у России в настоящем. Можно сказать, что у нас есть потенциал, желание быть великими, желание жертвовать во имя большой цели. Но достойной цели, национальной идеи у нас нет, несмотря на десятилетие поисков.

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ
А зачем нам вообще хотеть какого-то особого величия или особой миссии? А слабо расслабиться и нравиться себе просто так? К себе относиться с уважением. К другим народам — с уважением. Но это, вероятно, намного труднее, чем «величие» и «миссия».
Мы помним, что людям свойственно приписывать собственному народу хорошие качества. Но еще в мире есть народы, которые в силу каких-то обстоятельств, событий своей истории (влияние в мире, победы, присоединение территорий) привыкли считать себя не просто хорошими, но великими. Потому что у них есть весомый повод, чтобы подкачать свой коллективный нарциссизм.
Представим, что энергичный народ не сидит без дела и никогда не упускает возможности присоединять земли соседей. Если плохо охраняются земли под боком — отлично. Если не найдется таких земель под боком, иной раз и за море придется отправиться. Соседи иногда сопротивляются ожесточенно, иногда — не очень.
Постепенно получается империя.
Имперской народ прирастает и землями, и населением. Можно селиться на новых землях, рожать потомство, частенько вступая в браки с представителями присоединенных народов. «Нас много, земли у нас много!», «Мы великие!»
Имперский народ развивает науку, технику, литературу, искусство. И делясь с «присоединенными», и пользуясь всеми их ресурсами. Если кто-то родом из присоединенных становится выдающимся ученым или писателем, он, скорее всего, пишет на языке имперского народа. И становится одним из людей, которыми, как своими детищами, гордится империя. Государство-империя говорит: «Без нас он был бы — никто». Имперский народ считает, что «присоединенные» — не такие умные. И языки у них бедные, и культура примитивная.
Однажды империя начнет постепенно распадаться. Иногда мирно, иногда — не очень. Присоединившие переживают это как трагедию. Неблагодарные, им так много подарили! Забирают наше несправедливо!
Оно и ясно. Все знают старую шутку: берешь чужое, а отдавать приходится свое.
Про кого это? Ну конечно, про Древний Рим.
Когда самооценка человека подвергается угрозе, у человека могут «включаться» нарциссические защиты. Например, обесценивание того, на кого этот человек обижен. Да сам-то он какой! У народа в ситуации стресса, конечно, тоже могут очень ярко проявляться нарциссические защиты. В последнее десятилетие стресс — наш постоянный фон, а вместе с ним — представление: «нас не любят». Коллективной самооценке брошен вызов. «Да сами-то они какие!»
Вспоминается такой разговор в институте во время пандемии.
Коллега 1 пишет диссертацию. О том, что наши ценности — уникальные, русские, православные, а демократия — не наше. Это у нас в крови.
Все плохое, говорит коллега, началось в 2014 году. Все наши неприятности сейчас, бедность — из-за [одной соседней страны]. Это они все начали, все началось с [событий, повлекших за собой смену власти].
— А мы-то что там забыли? (Сердится.) Не имели они права сами в своей стране что-то менять. И страны у них не было вообще. И они неполноценные.
О-ля-ля! Будем говорить такие речи — и нам [один одиозный исторический персонаж] зааплодирует стоя. Только надо правильно назвать, какой народ полноценный.
Коллега 1 сокрушается, что у нас нет никакого культа нации.
Коллега 2 говорит: «Ненавижу Америку. Там сброд со всего мира, а не народ. Всех преступников туда ссылали». Коллега 1 с энтузиазмом поддерживает.
Коллега 3 рассказывает о родственниках, которые живут в Европе. Там, говорит, во время пандемии начался такой беспредел, что родственники на окна поставили решетки. Разбивают окна бомжи, все воруют. «Вот, — говорит коллега, — во время пандемии стало понятно преимущество России. Почему-то у нас такое не началось. Пандемия всех проверила и показала, кто есть кто».
Я говорю: «У меня тоже на окнах решетки». — «Ну вы же на первом этаже». Потом, сообразив что-то: «И поставили, наверно, раньше, не сейчас».
Ну что это я так про нашу гордость? «Значит, для тебя русский народ — плохой?» — «Почему плохой? Просто народ. Нормальный. С народами случается разное, и не всегда хорошее».
Вот, например, народ на фоне происходящих событий исполнился защитным нарциссизмом. На этом фоне нам только скажи, что все против нас, и мы с готовностью поверим. Так вот оно что! А вера в «осажденную крепость» — это страх, настороженность, готовность к борьбе.
И, конечно, — стыд. Представьте себя среди людей, которые вас осуждают. Как бывало, когда в СССР на партсобрании разбирали поведение одного из сотрудников коллектива. Или в школе, когда все разбирают поведение и оценки одного ученика, а он стоит перед классом. Представляете себя в роли человека, на которого все осуждающе показывают пальцем? Просто хочется сквозь землю провалиться. И вот люди представляют свой народ в роли такого нерадивого работника или незадачливого школьника.
И — как защита от сжигающего стыда — включается огромная гордость! Это — известный механизм. «Соседи нас ненавидят, потому что завидуют. Потому что у нас денег больше и квартира лучше».
Знакомо? Конечно. Почему все вокруг против нас? Потому что мы лучше их всех, и они нам завидуют. В 2014 году появилось в интернете и разлетелось по соцсетям стихотворение:
«Мы — Первые!
Для мира эта весть
Равна незабываемой обиде.
И потому, пока Россия есть,
Нас будут все смертельно ненавидеть».
(Леонид Корнилов)
В разные эпохи разные общества заражались такими настроениями, наполнялись страхом, ненавистью и одновременно — гордостью за страну и народ. Люди могут быть этим довольны, говорить: «Враги разбудили наш патриотизм!» Скажу нелестную вещь. Такие настроения — параноидные. В самом нездоровом случае это уже сумасшествие.
«Соседи напускают в вентиляцию отравляющий газ, чтобы я умер. Я заклеил вентиляцию, а они подпустили газ в щель под дверью. Наняли инопланетян, которые по очереди висят за окном и следят за мной». И однажды человека осеняет: «Так вот почему они все ополчились против меня! Я лучше их всех. Я выдающийся, самый великий! Поэтому они меня сживают со света. Но я покрыт невидимой броней и неуязвим для инопланетян».
Бред величия и бред преследования могут прекрасно сочетаться…
Это не прекрасно на самом деле. Давайте не будем сходить с ума.
Сейчас много спорят про гордость и стыд за свой народ. Ну, в завершение статьи на эту тему — мои пять копеек. До сих пор писала, что знаю как психолог, а теперь — мое личное мнение и личная позиция.
Что делается от лица моего народа, не делаю лично я. Так? Значит, мне в любом случае нечего стыдиться, не за что чувствовать себя виноватой? А мне все-таки случается чувствовать и стыд, и вину. И боль.
Далее. Ведь в родной культуре и истории тоже — ничего моего личного. Таблица Менделеева в мою ненаучную голову не пришла бы ни в каком состоянии. По химии в школе получала то «три», то «четыре»: это точно не я. Музыку Чайковского и оценить-то толком не могу: мне медведь на ухо наступил. Сочинения всегда писала легко и с удовольствием, но «Войну и мир» написала точно не я. Так я не умею. Чем же тогда гордиться? Но мне все-таки приятно, что все это есть. И родную литературу (которую, в отличие от химии, могу оценить) люблю. Так вот, если национальные стыд и вина — пшик, простите, то и национальная гордость — пшик. Как вам это понравится?
Моя страна и народ, их прошлое и настоящее — это не я, не вся моя идентичность, но значимая ее часть. Если человек способен что-то чувствовать за свою страну, значит, не чужая она ему, эта страна.
Значит, чувствует человек свое родство с ней. А это я и называю любовью к стране и народу. Когда человеку не все равно. Не только хорошее, но и плохое тоже.
И если мы действительно ценим свой народ, не стоит бить себя в грудь, утверждая, что он совершенен. Потому что нарциссическая гордость — это защита от стыда.
Татьяна Литвинова, психолог
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68