(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КОЛЕСНИКОВЫМ АНДРЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КОЛЕСНИКОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.
Выдающийся российский демограф Анатолий Григорьевич Вишневский оставил колоссальное наследие, состоящее из множества самых разнообразных, в том числе строго научных работ, учебников, докладов, статей, содержательных интервью и даже юморесок и святочных рассказов. Среди прочего он автор ошеломляющего по глубине романа, разумеется, недооцененного снобистской литературной тусовкой (если ее представители вообще в курсе, кто такой Вишневский), под названием «Жизнеописание Петра Степановича К.». Это история страны, пропущенная через биографию простого советского агронома Петра Степановича К., 1896 года рождения, уроженца Харьковщины, которому выпало долголетие — 95 лет. Анатолию Григорьевичу В. исполнилось бы в этом апреле 90.
В трагико-ироническое повествование время от времени прорываются документы и письма, в нем, кстати, неизбежным образом немало украинского языка. Собственно, и сам Анатолий Григорьевич Вишневский родился в Харькове и изучал статистику в Харьковском государственном университете, затем работал в академическом институте в Киеве уже в качестве ученого-демографа; в Москву по академической части переехал только в 1971-м. В его мягкой тихой речи угадывалось что-то слабо уловимое украинское.
Ученому Анатолию Григорьевичу было уготовлено не меньшее долголетие, чем его герою Петру Степановичу. Во всяком случае и после 80 в директоре Центра демографии ВШЭ и основателе «Демоскопа Weekly» Вишневском не было ничего от старика, даже в пластике движений, даже в почерке — четком и молодом, не говоря уже о впечатляющей работоспособности и неутомимости. Но
в свои 85 Анатолий Григорьевич вынудил горевать бесчисленное множество своих учеников, поклонников и соработников — он умер в ковид и от ковида, наступление которого сам же и предсказал.
Причем с использованием подробной и вполне внятной аргументации: в отличие от большинства академических ученых, он обладал способностью писать и объяснять настолько внятно, что его доказательная система была доступна неспециалистам с высшим, а то и просто законченным средним образованием.
Доказывая в одной из давних статей, что низкая рождаемость «западного» типа вовсе не свидетельство упадка и кризиса цивилизации, «а, напротив, доказательство ее огромных адаптивных возможностей», он попутно сформулировал мысль, которая после всего пережитого кажется даже банальной: «Сегодня возросшая плотность населения, помноженная на его неизвестную ранее мобильность и огромное развитие всемирных транспортных коммуникаций, постоянно грозит превратить любую локальную эпидемию в пандемию». Раньше, заразившись от, допустим, шимпанзе, могло вымереть племя, теперь риск несколько расширился — примерно до масштабов всего человечества.
Вид и среда
За частоколом цифр, таблиц и гистограмм, но в динамике — многодесятилетней и многовековой — Анатолий Вишневский видел то, что по разным причинам не видели или не хотели (и не хотят) видеть другие. Мышление демографа антимифологично. Вот, например, обрушение мифа о 1990-х: «Возьмем, скажем, появление естественной убыли населения в начале 90-х. Его часто объясняют шоком от реформ Гайдара, вредоносным действием «лихих 90-х» и т.п. Но это совершенно неверное объяснение… К началу 90-х 60-летнего возраста стали достигать не воевавшие поколения, появившиеся на свет в 1927-м и в последующие годы, когда рождаемость в России была еще высокой, они были более многочисленными, соответственно, было большим и число смертей — умирают все же в основном пожилые люди. А на числе рождений сказалось второе эхо войны:
низкое число рождений в военные годы первый раз напомнило о себе малым числом потенциальных матерей через четверть века, в конце 1960-х, а второй раз — еще через четверть века, в начале 90-х».

Фото: Марина Круглякова / ТАСС
Иногда лиц, принимающих решения в области рынка труда, миграции, здравоохранения, образования и демографии, хочется изолировать на неделю в санатории Управления делами президента, чтобы они изучили и сдали на «отлично» содержание учебника Вишневского для вузов «Демографическая история и демографическая теория». Это вполне междисциплинарное произведение, начинающееся с биоценоза, с объяснения важности равновесия между видом и средой. И вот это самое равновесие, даже проходя через череду кризисов, иногда чудовищных, включая войны, репрессии и эпидемии, все-таки восстанавливается, но далеко не всегда на него могут повлиять размер материнского капитала, насильственные проверки фертильности и пропаганда многодетности в не самом богатом государстве, да еще использующем человеческий капитал не вполне по его назначению — в окопах.
Анатолий Вишневский, если угодно, — демографический детерминист. Демографические тренды, настаивал он, предопределяют экономические и политические.
Он любил, например, показывать простейший ооновский график роста численности населения на Глобальном Востоке и Глобальном Юге, образовывавшего визуальный цунами, и сравнивать его с мелким ручейком Глобального Запада или Севера. Вот это всё — молодое, полное энергии и мобильное — неизбежным образом поедет за работой и/или образованием на Север, задающий образцы модернизации и современных форм жизни. А под модернизацией Анатолий Григорьевич категорически понимал вестернизацию. Мировые миграции, взятые под углом исторического зрения, остановить невозможно, ибо — и вот она хорошая новость — «это тоже элемент системной самоорганизации, приближающей систему к более равновесному состоянию».
Иными словами, пройдут и Трамп, и Ле Пен, и новое антимиграционное законодательство российской Думы, но рано или поздно будет достигнут баланс, позволяющий человечеству выжить. Назовете вы это новым мировым порядком или беспорядком, глобализацией или деглобализацией. Как к равновесному состоянию приводили демографический и эпидемиологический переход, гигиенические и сексуальные революции.
В конце концов в модернизированном обществе человеческие особи принимают душ чаще, чем в эпоху до санитарного и эпидемиологического перехода. Некоторых успехов достигает и медицина. Меняются и модели поведения человека. Человечество от равновесия высокой рождаемости и высокой смертности (это период «традиционных ценностей», к которым нас призывают искусственным образом вернуться, то есть отбросить себя лет на 150 назад) перешло к равновесию низкой смертности и низкой рождаемости. Это и есть демографический переход, многое определяющий и в политике, и в экономике, и в настроениях населения.

Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Целеполагание человека, разумеется, если не возвращать его в состояние перманентного выживания и воспроизводства будущих рекрутов, серьезным образом поменялось по сравнению с эпохой до демографического перехода. И вот ведь важная вещь, поднимающая (или опускающая) нас на политический уровень. Демография — она ведь и о политической свободе, и о правах человека.
Все очень просто: homo sapiens в условиях развитой политической демократии, работающих институтов, существенных затрат на образование, рыночной экономики получает безусловную возможность самостоятельно выбирать свою жизненную траекторию. Пользоваться, как определяет это Вишневский, «плюрализмом жизненных путей». Это касается и того, что называется репродуктивным поведением. Важно, объяснял Анатолий Григорьевич, не сколько детей рожает женщина, а насколько это результат ее сознательного решения.
Сознательного и свободного. Не в результате давления или даже насилия государства, требующего себе все больше рабочих ВПК и инженеров, плодящего искусственной многодетностью бедность и людей, которые будут искать избавления от нее в армии и полиции. Государства, настаивающего на унификации поведения. А человек свободен, когда у него есть выбор. Выбор во всем: широкое меню сортов колбас, производимых таким же свободным человеком в условиях свободного рынка; обширный список политических деятелей, которых в результате честных и свободных электоральных процедур и с учетом обязательной ротации можно выбрать мэром, губернатором, президентом; «пучок возможностей» разного прокреативного поведения в современном образованном, по преимуществу городском, желательно зажиточном обществе.
В результате модернизации поведения человеческих особей, достижения равновесия низкой рождаемости и низкой смертности, человек сам, без внешнего давления, решает, как и где получать образование, как, где и когда строить семью и рожать детей. Опять же с условием увеличения цены человеческой жизни, а не в логике одного православного батюшки, которого трудно назвать христианином, призывавшего рожать побольше детей — не так жалко будет, если одного или нескольких убьют в ходе боевых действий.
Современное общество — это снижение младенческой смертности. Это увеличение инвестиций, в том числе эмоциональных, в воспитание и образование человека.
Можно сто раз с высоких трибун произносить пафосные слова о высоком моральном смысле многодетности и стимулировать деньгами налогоплательщиков ранние роды у студенток, но невозможно пойти против общемировых трендов. В том числе тех, которые зародились еще в СССР и закрепились в современной России, похожей на любое западное общество. Со смертностью в России не очень: отстаем от развитых стран и по продолжительности жизни, и по структуре смертности (она у нас не очень здоровая). Но число городских уроженцев превысило число сельских еще в 1962 году, примерно тогда же, когда и на «коллективном Западе».
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68

Фото: Валерий Бушухин / ИТАР-ТАСС
«Этап скрытой депопуляции» (по Вишневскому) начался в городском обществе, чье поведение первым описал в своих «московских» повестях Юрий Трифонов, тоже в 1960-е годы. Время рождения детей в женском жизненном таймлайне стало постепенно сдвигаться в старшие возрасты еще в 1970-е. Положительное сальдо миграции было зафиксировано в РСФСР тоже в 1970-е годы. Правда, тогда, оговаривался Вишневский, это была не столько иммиграция из других союзных республик, сколько репатриация выходцев из России. История страны такова, что войны и репрессии разбрасывали людей по всему имперскому телу Советского Союза.
А дальше миграция приобрела более разнообразный и впечатляющий характер. С ней начали бороться и продолжают это с неистовой энергией делать, попутно разжигая мигрантофобию в титульном населении, вместо того чтобы заниматься адаптацией этой массы далеко не бесполезных людей. «Это иллюзия, — писал Вишневский, — что можно предохраниться от демографического взрыва, закрыв границы». В давнем, 2010-го года, интервью «Новой газете» Анатолий Григорьевич говорил: «Нужно понимать, что если вы принимаете взрослых мигрантов, то в первом поколении до конца интегрироваться в наше общество смогут немногие. Но если у них есть — или появляются уже в эмиграции — дети, у них перспективы интеграции совсем иные. Если дети мигрантов с младых ногтей будут знать русский язык, учиться вместе с нашими детьми, жить вместе с нами, то они без труда смогут встроиться в наше общество. Но для этого должна проводиться специальная, не сиюминутная политика, направленная на их интеграцию».
И дальше — пророческое: «Если же не решать эту проблему, убыль населения России остановить не удастся. И дело, конечно, не только в «демографической дыре» в нижней части возрастной пирамиды, хотя, перемещаясь от основания к вершине пирамиды на протяжении 100 лет, она принесет еще немало неприятностей. Для начала в текущем десятилетии у нас резко упадет число молодых матерей, как следствие — снизится число рождений, так что оно отзовется «эхом» и в будущем. Станет меньше молодых мужчин, значит, станет меньше призывников. Минобороны своего не упустит, следовательно, возникнет проблема конкуренции между армией, экономикой и высшим образованием. Последнее, скорее всего, от этого не выиграет, и его качество упадет еще больше».
Серп и рубль
Пятнадцать лет прошло — все так и случилось. И разумеется, никто демографа слушать не стал, все делается диаметрально противоположным образом. А совет — точнее говоря, один из советов — был дан: «Надо исходить из того, что в Россию приезжает низкосортное с точки зрения качества население, поэтому если исходить из интересов страны с дальним прицелом, то ставку надо делать на детей мигрантов». Хотя шанс и на нормализацию ситуации, и продолжение модернизации общества был. Пошли же по пути искусственной демодернизации, причем во всем. И каким тогда образом должна выправиться демографическая ситуация в стране?
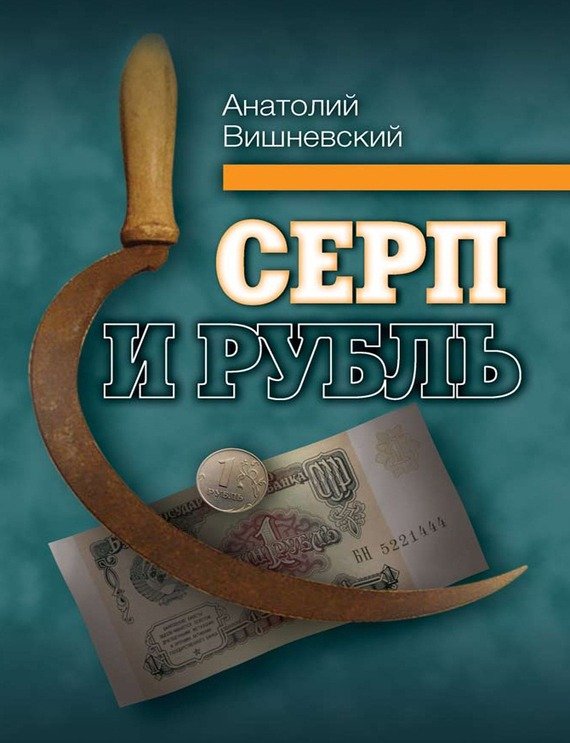
Об извилистом пути российской модернизации Вишневский написал свой фундаментальный труд «Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР». Книга издана почти три десятилетия назад, в 1998-м, но уже тогда Вишневский делал вывод о не слишком большой эффективности «гигантской социальной мутации»: «Очень многие модернизационные проекты для России строились и строятся по методу Агафьи Тихоновны: все они хотят сочетать то, что мило из мира серпа, с тем, что нравится в мире рубля». Впоследствии кто-то уточнил эту формулу власти в России: «управлять, как Сталин, жить, как Абрамович».
То есть снова попытки авторитарной модернизации, в результате которой авторитаризм укрепляется, а модернизационные интенции оборачиваются контрмодернизацией. Один из выводов Вишневского:
«Какую бы составную часть осуществленных перемен мы ни взяли, в каждом случае после короткого периода успехов модернизационные инструментальные цели вступали в непреодолимое противоречие с консервативными социальными средствами, дальнейшие прогрессивные изменения оказывались блокированными, модернизация оставалась незавершенной, заходила в тупик. В конечном счете это привело к кризису системы и потребовало ее полного реформирования».
Анатолия Григорьевича хочется цитировать и цитировать до бесконечности, потому что он обладал искусством объяснять и доказывать. Это какое-то воплощение здравого смысла. Вот еще цитата из того же давнего интервью «Новой»:
«Да и наша нынешняя высокая смертность несет на себе печать сталинской политики. Успешная борьба со смертью — это не просто технологический процесс. Она невозможна без признания высокой ценности человеческой жизни, она должна быть и у каждого человека, и у врача, и у власти. Мобилизационные методы решения всех вопросов любой ценой, разгул репрессий, когда расстреливали по разнарядке, все это резко снизило ценность жизни. Когда так сорят миллионами жизней, эта ценность не может быть высокой. Все сталинское правление исходило из того, что людей у нас достаточно, а надо будет — бабы еще нарожают. Времена изменились, а мы все еще миримся с экономией на здравоохранении, так и не высвободившись из сталинской шинели. И платим за эту экономию очень дорого. Что-то у нас не в порядке с приоритетами».
Вот еще что.
Вся жизнь Анатолия Григорьевича — это борьба со смертностью и смертью: когда объясняешь природу демографических процессов, тем самым выступаешь за содержательную и качественную человеческую жизнь.
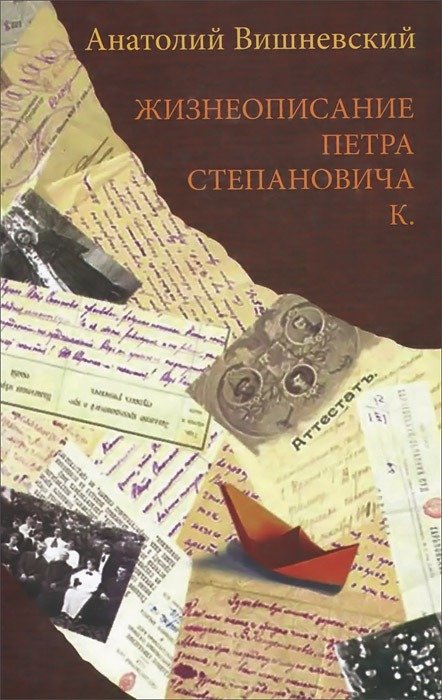
Петр Степанович К. прожил тяжелую жизнь вне «плюрализма жизненных путей». У него не было возможности перейти, как это определял демограф, от жизненного цикла, навязанного государством, к собственно жизненному пути: герой романа умер в конце восьмидесятых, когда свобода только начиналась. Анатолию Вишневскому тоже было непросто: он родился в год сталинской фразы «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее», а умер за год до СВО. Но удивительное дело: подлинная наука позволяла ему быть свободным человеком, в том числе в тех работах, которые он писал в советский период. Своих эмоциональных оппонентов, к науке не имеющих отношения, зато прислонившихся к власти, в одном из своих иронических святочных рассказов Анатолий Григорьевич вывел в образе некоего Пуста О’Мелли, приводившего в качестве позитивных исторических примеров рост рождаемости в гитлеровской Германии, муссолиниевской Италии и исламском Иране. Рассказ был святочный, аргументы и графики — научными: «То, чем гордились Гитлер и Муссолини, сейчас может всерьез принимать лишь Пуст О’Мелля».
Оптимизма это не добавляет, но по крайней мере есть еще один образец опыта свободной жизни. А наследие Вишневского заслуживает того, чтобы его местами вызубрить наизусть. Если, конечно, хотеть вернуть в общественный оборот такую экзотическую вещь, как ценность человеческой жизни.
Этот материал вышел в шестом номере «Новая газета. Журнал». Купить его можно в онлайн-магазине наших партнеров.
* Внесен властями в реестр «иноагентов».
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
