В Лугано Боборыкин и его жена Софья Александровна остались без денег. Они хранили сбережения в России в надежном государственном банке; после октября 1917-го забрать их оттуда стало нельзя. Деньги Боборыкина, заработанные всей его жизнью, накопленные на старость, забрали большевики. И он стал нищим.
Ему был 81 год. Он был лысый, грузный человек с огромным лбом и густыми усами. Он писал всю свою долгую жизнь, работал без устали, публиковал романы, рассказы, фельетоны; но уже несколько лет ничего не писал, отрезанный войной от России. За гостиницу, где они жили, теперь ему было нечем платить; добрый хозяин позволил двум старым людям жить бесплатно. Из Парижа в Лугано ему иногда приходили скудные пожертвования.
Не до него было! Миллионы русских людей очутились на чужбине, мучились от жары в Галлиполи, от тесноты на превращенном в общежитие броненосце «Георгий Победоносец» в Бизерте, от голода в каморках Парижа, от тоски в закоулках Стамбула.
Всем нужна была работа, все искали, как устроиться, как заработать франк или марку, как пустить хотя бы слабый корешок в новую жизнь. Что тут какой-то смутно вспоминаемый Боборыкин, до него ли тут? Лет сорок назад в Женеве Боборыкин навестил одного русского эмигранта — чуть ли не всю русскую эмиграцию он знал лично и поименно — и услышал от него:
«Вы будете надо мною смеяться, но я до сих пор верую в то, что вот сейчас подкатит к подъезду нашего дома тройка, возьмет меня и помчит на родину, освобожденную от ее теперешних оков».
Этой надежды Петр Дмитриевич Боборыкин, писатель, журналист, академик по разряду словесности, иметь не мог. И не потому, что лихая тройка ушла в прошлое, а на ее место встал кашляющий бензином автомобиль. А потому, что времени дожидаться очередного освобождения родины от оков у старого писателя не было. Да и когда будет, и будет ли, это освобождение?
В середине 1919 года пошли слухи, что Боборыкин умер. Как положено, напечатали некрологи, опубликовали воспоминания. Оказалось, ошибка, жив. Под руку с женой он выходил из гостиницы и медленно шел по улице швейцарского города. Рядом было сияющее озеро, по ту его сторону — Альпы.
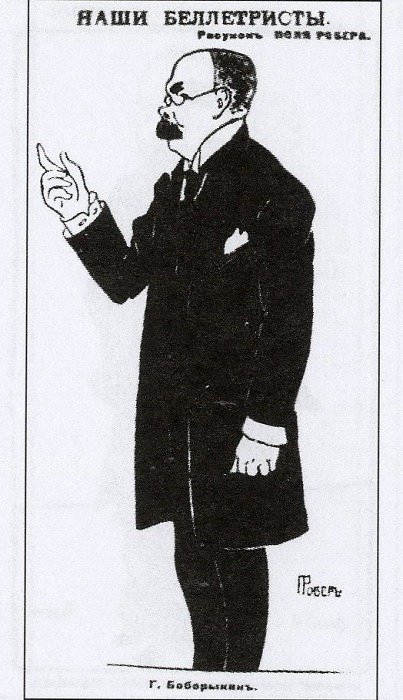
Архив
Вырос он в доме, где было двадцать человек дворни и сорок лошадей на конюшне. В Казани, в университете, застал «чудака, выживавшего из ума» — Лобачевского. В то время студенты носили треугольные шляпы и шпаги, а за провинности их сажали в карцер.
Он учился у химика А.М. Бутлерова, а заодно и на лекции к медикам ходил. Любил учиться, любил науку. Успевал ходить и на танцы в местный свет, который называл монд. Там были обязательны замшевые перчатки; как они грязнились, он их сам стирал. Милий Балакирев, будущий композитор, был его приятелем. Знал он в родном Нижнем Новгороде и «угрюмого, сухого старика», игравшего в шахматы и составлявшего словарь, — Даля.
Когда началась Крымская война, «никакого патриотического одушевления я положительно не замечал в обществе». «Там где-то дрались; но город продолжал жить все так же: пили, ели, играли в карты, ездили в театр, давали балы, амурились, сплетничали». «Равнодушие к судьбам своего отечества, к тому, что делалось в Крыму, да и во время севастопольской осады, держалось и в студенчестве. Не помню никаких не то что уж массовых, а даже и кружковых проявлений патриотического чувства. Никто не шел добровольно на войну (а воинской повинности мы тогда не знали), кроме студентов-медиков, которым предлагали разные места и льготы».
Желая учиться в самом лучшем университете, он перешел в Дерпт, который назвал «Ливонскими Афинами», в Дерпт, «где порядки напоминали уже Германию», которую он безмерно уважал за ее философов и ученых. В Дерпте жил бедно, сушил сухари на печке и неделями питался ими, закусывая дешевым сыром. А на книги тратился щедро. «Тогда же я ушел в Вольтера». Ну и французские романы в брюссельских перепечатках. Бальзака читал в подлиннике. В Тамбовском имении «целыми днями в томительный жар мы сидели в прохладном кабинете отца, один против другого, и читали». Прочитанные романы считал пудами. «Со мною отпустили разных варений и сушений и пуда три романов, которые я все и прочел».
Он был читатель заядлый — ценил фабулу, сюжет, характеры. Но читая «Накануне» Тургенева, впервые ощутил, что главное не сюжет, не фабула, а что-то другое… сама плоть прозы.
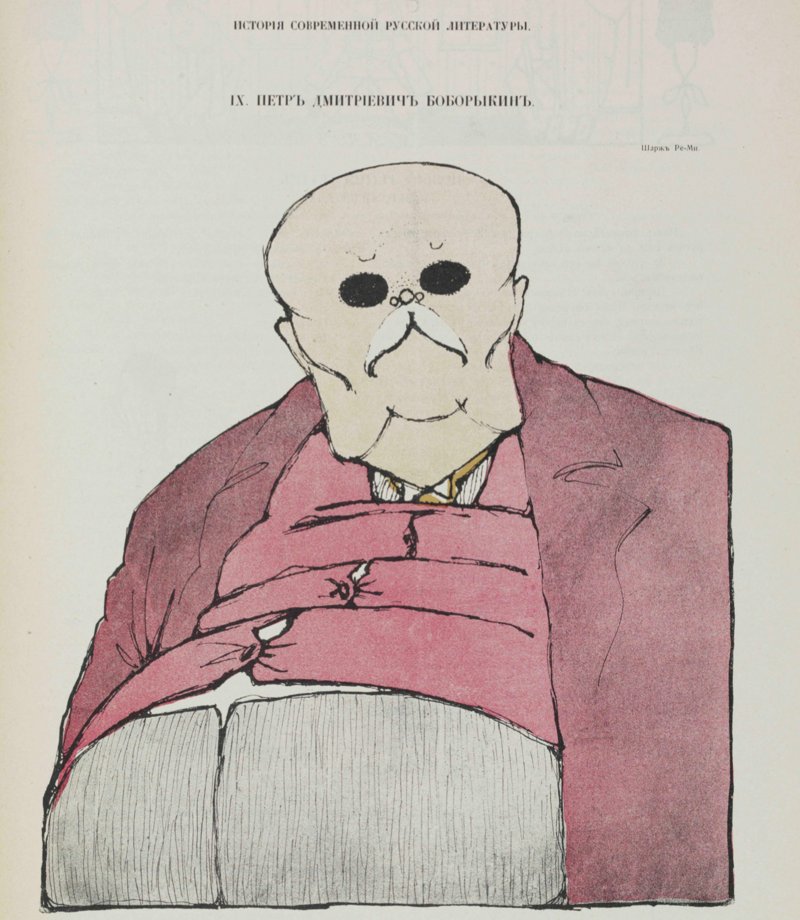
Пётр Боборыкин в Сатириконе. Фото: Википедия
«Помню, я первый схватил книжку «Русского вестника», прибежал домой и читал до трех часов ночи в постели, и потом не мог заснуть до рассвета».
Шестидесятые годы девятнадцатого века мы можем представить по шестидесятым двадцатого. Так же словно окна распахнулись в доселе душной комнате. Так же вдруг все стали с упоением читать. И появились те, которых нельзя было не читать, непременно нужно было читать — Толстого, Писемского, Григоровича, Щедрина, Николая Успенского и «разных обличительных беллетристов».
Вдруг, ни с того ни с сего молодой Боборыкин стал состоятельным человеком. Дядя его, «престарелый генерал павловских времен», умер, оставив ему по завещанию два имения в черноземной полосе Нижегородской губернии. Сам он это удивительное происшествие назвал «спавшая сверху благодать».
«Благодаря энциклопедической программе камерального разряда, где преподавали, кроме чисто юридических наук, химию, ботанику, технологию, сельское хозяйство, я получил вкус к естествознанию и незаметно прошел в течение восьми лет, в двух и даже трех университетах, полный цикл университетского знания по целым трем факультетам с их разрядами».
Знал языки английский, французский, немецкий, позже выучил польский, испанский и чешский. Еще позже, в пятьдесят лет, стал учить греческий. На пятом курсе медицинского факультета лечил мужиков и дворовых. С такими знаниями мог стать ученым, химиком, врачом, мог быть сельским хозяином, мог стать юристом или чиновником с хорошими шансами на карьеру. Но три университета и дюжина наук, которые он изучил, были нужны только для того, чтобы понять: нет, он будет писателем.
Вход в литературу получился у него удачным — со скандала, сам он так и сказал: «успех скандала». То, до чего Набоков дошел не сразу — порнография как билет во всеобщую известность, — Боборыкину удалось на первом же шаге. Правда, на нынешний взгляд никакой порнографии в «Жертве вечерней» нет, но во времена, когда юбка чуть выше щиколоток считалась короткой, были иные понятия… Потом он говорил, что ничего такого не замышлял, а только писал, как пишется, разоблачительный роман о жизни высшего света, а если точнее, о «моральной несостоятельности наших светских женщин». Ну и разоблачил!
В это же время он — молодой многообещающий автор, владелец двух имений — купил журнал «Библиотека для чтения». Тогда это был один из уважаемых толстых журналов с 1300 подписчиков. Предыдущий редактор, Писемский, советовал ему взять журнал, кому как не ему, молодому, энергичному, полному идей? — он увлекся и взял. Быстро обнаружилось, что касса пуста, подписчиков меньше, чем заявлено; взял он, значит, на себя предприятие на грани краха. Два года бился, вкладывал свои деньги, брал в долг, но спастись не смог. И «спавшая с неба благодать» не спасла, пришлось отдать все, что имел. «Но дефицит по изданию «Библиотеки для чтения» заставил меня к 1864 году заложить мою землю с лесом в Нижегородском дворянском банке за ничтожную сумму в 15 000 рублей (теперь она стоила бы гораздо более ста тысяч), и она пошла с аукциона менее чем за двадцать тысяч».
«И вышло так, что все мое помещичье достояние пошло, в сущности, на литературу. За два года с небольшим я, как редактор и сотрудник своего журнала, почти ничем из деревни не пользовался и жил на свой труд».
Так и предстояло ему жить дальше всю свою жизнь писателя — на свой труд. Никогда больше никаких других денег не имел, кроме тех, что платили ему за его рукописи. Считал, что долг писателя писать, и поэтому не отстранялся ни от какой литературной работы. Писал воскресные фельетоны в одни газеты и четверговые корреспонденции в другие, писал под своим именем и не под своим. Фельетоны в «Библиотеке для чтения» подписывал псевдонимом Петр Нескажусь, в «Искру» из Парижа писал под псевдонимом Экс-король Вейдавут, в «Русский инвалид» под псевдонимом Авенир Миролюбов. Много было в прессе Боборыкина, но ведь это только малая часть того, что он писал, а главное — романы. Задумывая роман, так себе и говорил: первая часть будет двадцать печатных листов, вторая тоже двадцать, и третья тоже… И все это в один год.
Есть разные техники письма и связанные с ними способы самоконтроля. Хемингуэй советовал не дописывать до конца, не исчерпывать дневную норму слов — оставлять что-то недосказанным, на завтра. Боборыкину такие тонкости невдомек. Может быть, они и всему девятнадцатому веку, человеком которого он был, невдомек. Достоевский мерил ли мензуркой внутреннюю энергию, взвешивал ли на аптечных весах слова? Нет, писал страницами, словно в приступе, наваливаясь грудью на стол, подметая чернила бородой. Толстой работал усердно и тяжело, сколько мог, столько и писал, силы и слова не берег.
И Боборыкин тоже работал беспрерывно. В год по роману, а еще пьесы, рассказы, очерки, а потом еще и воспоминания страниц на восемьсот. Эти его раз в год выскакивающие романы Салтыкова-Щедрина раздражали. «Опять набоборыкал роман».

Портрет Салтыкова-Щедрина. Художник: Иван Крамской
Про Салтыкова, который «ушел в свой систематический сарказм и разъедающий анализ тогдашнего строя русской жизни», Боборыкин говорил, что он — убежденный писатель. Это высшая для него похвала.
В чем состоял его метод? В изучении жизни, во внимании к быту, в накоплении знания, в беспрерывном движении по городам, странам, улицам, гостиным, дворам, торговым рядам, складам, фабрикам, конторам, редакциям, университетам. Кварталы притонов на московской Трубной улице тоже знал.
С молодых лет много ездил. Из Казани в Нижний в телеге с сеном, спиной привалившись к чемодану. С парома через Волгу, уже покрытую кашей льда, телегу чуть не сбросила волна. Несколько секунд смертельного страха он запомнил на всю жизнь. «До сих пор мечется передо мною картина хмурого дня с темно-серыми волнами реки и очертаниями берегов и весь переполох на пароме». Ездил и на тарантасе — точно как герой повести графа Сологуба — из Нижнего до Москвы. Ямщик подсадил на тарантас бабу, она прямо в тарантасе родила. Ездил на перекладных из Нижнего в Москву и Рязань. А приехав в метель в Петербург, тут же отправился в итальянскую оперу.
«Наблюдательность должна питаться все новыми «разведками» и «съемками». А наблюдателен он был в необычайной степени, и память имел удивительную, фотографическую. Раз побывав в комнате, навсегда запоминал всю мебель, что в ней была, раз увидев человека, тут же схватывал все его внешние подробности. Поэтому романы его так наполнены предметами, что напоминают плотно заставленный мебелью дом; везде шкафы, стулья, диваны, все описано с необычайной точностью, и так плотно написано, что читать тесно. А людей, им описанных в романах, читатели тут же находили среди известных персон — он их фотографировал своим зрением, своей памятью.
Вот как ходит один из его героев, Иван Алексеевич Пирожков: короткими шажками, с перевалкой и приятным поскрипыванием. Хорошо сказано!
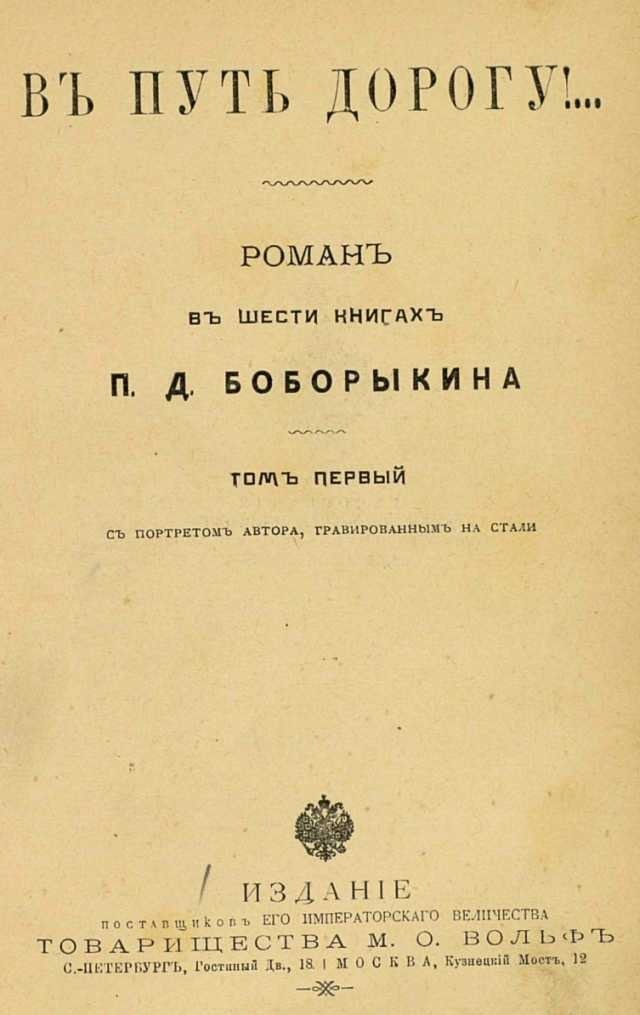
Роман «В путь дорогу»
«Его сапоги на двойных подошвах издавали сильный скрип». Понимаете, не просто сапоги, а на двойных подошвах! Боборыкин и это заметил.
Но это мы так говорим — писал романы, а на самом деле он их не писал, во всяком случае, в середине своей жизни. «Жертву вечернюю» диктовал ежедневно с 9 до 12, за шесть недель надиктовал двадцать печатных листов. Роман «В путь-дорогу» диктовал специально взятому для этого секретарю. «Земские силы» диктовал подростку-семинаристу. В Париже под его диктовку за 5 франков в день писал нищий поляк. Так работал до 1873 года, потом взялся за перо. Но тут же оставил его: «разное время брал себе чтецов, когда мне, после потери одного глаза, запрещали читать по вечерам».
Писал и читал, значит, до потери зрения, чуть ли не до слепоты. Но читать и писать все равно не перестал.
Есть во фразе Боборыкина, в самом строе его письма, основательность времени, в которое он жил, основательность и сила литературы, как ее тогда понимали и чувствовали.
«Говорил он, точно ногу или руку резал».
«Делать толковое добро доставляло ему положительное удовольствие».
Русскую литературу Боборыкин знал во вполне домашнем, а иногда интимном виде. Писемского видел за письменным столом «с голой жирной мохнатой грудью», но это еще не все; помимо обстановки во всех подробностях (слева от двери диван, и не просто диван, а клеенчатый) он еще запомнил шубу, висевшую в кабинете, и под ней стоявший ночной горшок. Объяснил: в прихожей шубу Писемский не оставлял, потому что боялся, что ее оттуда своруют, а горшок в кабинете держал потому, что лень было из кабинета уходить. Островского видел тоже за письменным столом, в халате на беличьем меху.

Граф Сологуб. Источник: Википедия
Графа Сологуба, «Тарантасом» которого зачитывалась вся читающая Россия, он видел на даче в Карлове, которую когда-то построил для себя Фаддей Булгарин. Граф рассказывал ему о Пушкине, с которым был дружен, о Тургеневе и Одоевском. Это был аристократ, занимавшийся литературой, представитель «барско-дилетантской среды». Боборыкин назвал его «полуписателем». Сам он никаким полу-, конечно, не был: всю свою жизнь, всего себя перевел на письмо, на рукописи, на тексты.
Чернышевского видел на сцене. «Когда Чернышевский появился на эстраде, его внешность мне не понравилась. Я перед тем нигде его не встречал и не видал его портрета. Он тогда брился, носил волосы «a la moujik» (есть такие его карточки) и казался неопределенных лет; одет был не так, как обыкновенно одеваются на литературных вечерах, не во фраке, а в пиджаке и в цветном галстуке.
И как он держал себя у кафедры, играя постоянно часовой цепочкой, и каким тоном стал говорить с публикой, и даже то, что он говорил, — все это мне пришлось сильно не по вкусу. Была какая-то бесцеремонность и запанибратство во всем, что он тут говорил о Добролюбове — не с личностью покойного критика, а именно с публикой. Было нечто, напоминавшее те обращения к читателю, которыми испещрен был два-три года спустя его роман «Что делать?».
Про смешившего Россию своими сценками юмориста Лейкина Боборыкин вежливо сказал, что «он «рассудку» не терял, нажил себе доходный дом и дачу, где пристрастился к разведению редких пород кур, которые и посылал на выставки». Что ж, выходит, литература и для покупки кур сгодится.
А был еще Павел Якушкин, ныне забытый, носивший мужицкую поддевку, баранью шапку и сапоги. А на носу — очки. «Свои статьи он носил в кармане шаровар, в виде замусоленных кусочков бумаги».
Разорившись на издании журнала, он уехал в Европу, которую всегда считал местом цивилизации, оплотом культуры и науки, и оттуда писал в русские издания, собирая гонорары, чтобы ими отдавать долги. Долгов, которые наделал за два года издательства журнала, хватило на двадцать лет, двадцать лет их отдавал.
Потом вернулся в Петербург.
«Петербург встретил меня стужей. Стояли январские трескучие морозы, когда я должен был делать большие поездки по городу в моей венской шубке, слишком короткой и узкой, хотя и фасонистой, на заграничный манер. Я остановился в отеле «Дагмар» — тогда на Знаменской площади, около Николаевского вокзала. Возвращаясь из Большого театра, я чуть было не отморозил себе и щек, и пальцев на правой ноге».
Отвыкший от сырого петербургского холода, замерзший, одинокий, он не находил тут больше друзей, все разъехались, исчезли — пустой город.
«И вот в этом самом городе, где я как писатель испытал уже столько горечи, потерял состояние и нажил огромный для меня долг, я должен был теперь заново устраивать себе положение.
Другой бы на моем месте попробовал иного поприща. Мне давно уже советовали идти в адвокаты».
Там он точно заработал бы больше, чем литературой. Но не хотел. Почему? Из того, что он называл «закоренелой преданностью писательскому делу».
Проза его наполнена Москвой, Москва в ней живет и плывет, пышет и дышит. «Пахло фруктами, спелыми яблоками и грушами — характерный осенний запах Москвы в ясные сухие дни».
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68

Сухаревский рынок, конец 19 века. Фото: архив общественного достояния
И какая плавность хода у этой прозы!
«Москва!.. Он имел к ней слабость, да и теперь любит ее по-своему, как «этнографический центр», — говорит он об одном из своих героев, интеллигенте Пирожкове, «москвиче с добрыми и умными глазами». Или о себе говорит?
Другой его герой, Палтусов, снимает квартиру около Чистых прудов. Интересно, где? Боборыкин адреса не называет, но все пишет с натуры, точно, как в атласе. «Флигелек с подъездом на переулок, выкрашенный в желтоватую краску». Вот бы найти этот флигелек!
Две старухи, мать и дочь, живут в старом помещичьем доме на Спиридоновке. Зима, в одном из окон утонувшего во тьме доме теплится слабый свет. В комнатах холодно, они не топятся. Благородные, дворянские старушки выращивают в своем тесном холодном доме песцов (из их шерсти вяжут шали на продажу) и говорят между собой по-французски. Тот, кто хоть раз прочитает эти страницы, теперь всегда, проходя по Спиридоновке, будет оглядывать улицу, озирать дома: где он, этот особнячок?
Онегин и Печорин — создания гениев русской литературы, высокие герои дворянской эпохи. А у Боборыкина Палтусов и Осетров — хоть и дворяне, но подались в коммерцию, один мечтает разбогатеть, другой уже громадно разбогател. В фамилиях снижение, но еще и скрытая ирония и спрятанная насмешка над самим собой. Мол, это у них, у Пушкина и у Лермонтова, благородство Печоры и Онеги, а у меня фамилии героев пахнут рыбной торговлей. Проще наше время и ниже. Но сколько в нем цвета, запаха, сколько лавок и яств, сколько жажды богатства и человеческих стремлений. «Хлестко живут».
«Все-таки кумовство нужно, или, лучше сказать, — организованный обман», — рассуждает Палтусов, едущий на извозчике к своему бывшему патрону, только что разорившемуся Кулакуцкому, не зная, что в эту самую минуту тот подносит пистолет к виску. Едет выразить сочувствие — а по дороге думает о том, как бы из чужого краха извлечь себе выгоду.
«Все кругом хапает, ворует, производит растраты, теряет даже сознание того, что свое и что чужое. Теперь, войдя в делецкий мир, он видит, на чем держится всякая русская афера».
«Глаза Палтусова перебегали от одной мужской фигуры к другой.
«Все жулики!» — говорили эти глаза. Ни в ком нет того, хоть бы делецкого, гонора, без которого какая же разница между приобретателем и мошенником?..»
Все так, но, однако, как все это далеко от звериного мира современного бизнеса, с его крышеванием, отжимом собственности и прочим в таком роде. А у Боборыкина на весь большой роман всего два случая обмана. Один, это когда он походя упоминает, что приказчики воровали. А второй, это когда шали, которые вяжут две старухи в маленьком домике в переулке у Спиридоновки, продавали на Никольской, в Ножевой линии, выдавая за «привозной товар с Макарьевской ярмарки, нижегородского и оренбургского производства». Вот и весь обман на все триста страниц романа о русском бизнесе.
Проза у Боборыкина такая густая, что если бы это была каша, то в ней бы ложка стояла.
Вот обед в купеческом доме, рассказанный Боборыкиным: индейка, начиненная каштанами, яблочный пирог со сливками… А, нет, мы сейчас лучше в трактир пойдем! Там еще вкуснее.
Палтусов и Калакуцкий завтракают в трактире на Варварке. «Стол в минуту был уставлен бутылками с пятью сортами водки». А еще красное вино. Вы не подумайте ничего плохого, они не алкоголики, они деловые люди. «Калакуцкий заказал завтрак: паровую севрюжку, котлеты из пулярды с трюфелями и разварные груши с рисом». А еще балык, провесная белорыбица, икра и соленые хрящи. Ну и горячие калачи, естественно.
На секунду остановимся на провесной белорыбице. Провесная — это такая рыба, которую хранят не на льду, а подвешивают на рейках. Сейчас можно прочитать, что это современный инновационный способ хранения рыбы. Слышите, Петр Дмитриевич, ин-но-ва-ци-онный! А его сто пятьдесят лет назад в трактире на Варварке знали и не кичились особенно, обычное дело. Посмеемся вместе.
Ах да, еще «после котлет принесли шампанское» (причем пьют его из стаканов). Потом кофе и ликеры. Все хорошо, но чего-то не хватает… Чего? А вот, ставят на стол три ящика с сигарами…

Вид на Пречистенские ворота и Пречистенку в 1920-х годах. Фото: pastvu.com
Вкусная эта жизнь, нет, вкуснейшая. Изобилием жизни, вкусом еды и питья наполнены страницы. Дикая коза в пряном соусе, после него хочется пить. Жестковатые груши, купленные на Никольской у уличного разносчика, присевшего на корточки. Грушевый квас в квасной, куда вход через Сундучный ряд, под вывеску. Или вишневый будете? Квас наливают в стаканчики, пузатенькие внизу и с вывернутыми краями. Видели вы такие стаканчики?
Во фразе «Сани пробирались по сугробам переулка» есть что-то волшебное и согревающее душу. И дальше это ощущение равновесия себя и мира усиливается. «Бобровый воротник приятно щекотал ему уши. Голова нежилась в собольей шапке. Лицо его улыбалось». Особенно если знать, что «едет он вечером по Поварской, по Пречистенке, по Сивцев-Вражку, по переулкам Арбата…».
Какие знакомые места. Какая Москва. Без саней, без бобрового воротника и собольей шапки — да разве в них дело? — и мы по этим переулкам, обрамленным сугробами, странствовали. В иное время, когда и шапки другие, и люди другие, а вот надо же — как нам близок и понятен боборыкинский герой в эту минуту.
Хотя он и делец.
И так всю книгу. «Они много смеялись и с хохотом въехали во двор старого университета». Да, да, вот так прямо и въехали в санях в распахнутые железные ворота перед желтым с белым зданием на Моховой.
Какого цвета купеческие дома в Москве, с крыльями и мезонинами дома, за которыми сад с липами и кленами? Мы гадаем, подбирая слова, — желтые? светлые? А Боборыкин знает — «они окрашены в нежноабрикосовый цвет».
Едем, едем дальше. Как хороши эти простые фразы, сколько в них гармонии и благодати. «Мелкий снежок заволакивал свет поднимающейся луны». Особенно если все это происходит на Тверской-Ямской, и сани то нырнут в яму, то взлетят на ухабе.
А куда едут? «Мелькали, все в инее, деревья шоссе». Какого шоссе? Петербургского. А, то бишь Ленинградский проспект… Так это к «Яру». То есть к гостинице «Советская». Мешаются времена, мы и там, и тут, катим к «Яру» вместе с Палтусовым и Пирожковым и пешим ходом идем по улице Расковой, мимо ступеней и колонн… «Вот и «Яр», весь освещенный, со своей беседкой и террасой, укутанными в снег».
«На дворе разыгралась вьюга». Вот как надо начинать романы или хотя бы, как это делает Боборыкин, третью часть большого романа. В короткой фразе всего из трех слов очарование классической русской прозы.
«Весь город ждет — остается десять минут до полночи». О, какая тайна и какое предвкушение счастья в этой фразе!
Все чаще он уезжал из ледяного и чопорного Петербурга, из теплой и пахнущей хлебом Москвы — «…а все что-то притягивает к этой мужицкой и купеческой Москве» — в Европу, которую с присущей ему научной основательностью и великой внимательностью узнавал и изучал. Жил в Париже, в Лондоне, корреспондентом ездил в Мадрид, 25 раз весну и часть лета проводил в Бадене. В Италии видел горы, «где карабкались козы — белые и темношерстные: истое нижегородское животное, кормилица мелкого люда. Коз мы любили особенной какой-то любовью, и когда я в Неаполе в 1870 году увидал их в таком количестве, таких умных и прирученных, я испытывал точно встречу с чем-то родным».
Видел страшную нищету в Лондоне, все понимал трезво: «Прекрасна конституция в Англии для тех, у кого есть золотые часы… А каково тем, у кого нет и медных?» (приводит он слова своего друга Бенни).

Хитровка, уличный сапожник. Фото: архив
Потихоньку, помаленьку переводил свою жизнь и свой интерес в Европу. С его знанием многих языков, с его любовью к чистоте и культуре, с его уважением к немецким университетам, с его знанием французской литературы — естественно, что туда перебирался. А пока что — был избран академиком по разряду словесности, причем Лев Толстой, когда ему прислали бюллетень, чтобы вписал шесть фамилий кандидатов на три места, шесть раз написал фамилию Боборыкина. Боборыкин этим гордился, но нас, знающих Толстого, гложет некоторое сомнение… Лев Николаевич премий и званий не признавал… и очень может быть, что одну фамилию написал шесть раз, чтобы не думать о пяти других и чтобы отвязались.
В Москве на банкете по случаю сорокалетия литературной деятельности выслушал речи в свою честь — и «пора было ехать в Швейцарию, восстановлять свою бодрость». А как это? Ну жить в тихом городе на берегу озера, смотреть на горы, на воду, на закат, гулять неспешно и так же неспешно, освободившись наконец от письма к сроку, каким занимался всю жизнь, писать воспоминания о людях, с которыми встречался за полвека. Память была такая вместительная и ясная, что всех помнил. В именном указателе к его сочинениям — сотни имен. Да, вспоминать, но не «впадать в смертный грех старчества», то есть не возвеличивать себя и никого не учить жить.
Он уехал из России, и его быстро забыли. Писатель, чьи книги лежали на каждом прилавке, чьи романы печатались в толстых журналах с продолжением, чье имя было у всех на устах и, казалось, вошло уже навсегда в русскую литературу, — оказался забытым уже при жизни.
Боборыкин? А где он? Где-то там… куда-то уехал… в далекой Швейцарии гуляет по берегу озера… исчез вместе с девятнадцатым веком, которому принадлежал.
А теперь век двадцатый, ускорившийся, срывающийся с колеи, век экспроприаторов, босяков, сильных людей, нарастающей тревоги, грядущего ужаса.
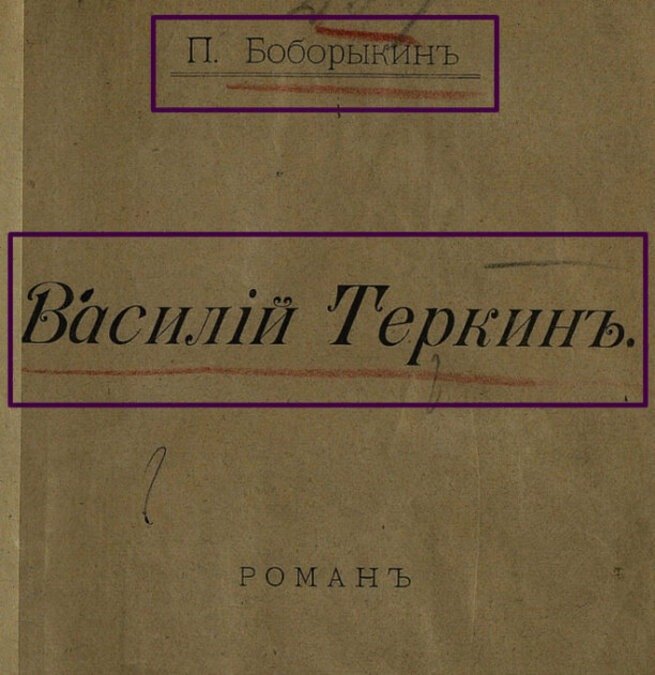
Роман «Василий Теркин»
Все забыли — и то, что он ввел в оборот слово «интеллигенция», и то, что прежде солдата Василия Теркина был его, боборыкинский, делец Василий Теркин, и то, что воспел Москву эпохи первого капитализма, и то, что придумал салат «ерундопель», который в его романе собравшиеся на редакционное собрание (оно же пьянка) люмпен-журналисты сооружают из четверти фунта салфеточной (то есть выдержанной в дубовых бочках на салфетках) черной икры, прованского масла, уксуса, горчицы, лука, «сардинки четыре очистить, свежий огурец и пять вареных картофелин».
Забытый с целой горой своих романов, со всем трудом своей жизни, со своей образованностью и корректностью интеллигентного человека, со своей преданностью литературе — он и сейчас забыт прочно, основательно и без надежды на будущее, на очередной, теперь уже двадцать первый век, где жизнь летит в свете сияющих огней и в потоках крови, подскакивая, подпрыгивая, воя, пританцовывая.
«Когда наступит время для подробной биографии Боборыкина…» — написал А.Ф. Кони в 1919 году, когда в Москву дошла ложная новость — сейчас сказали бы фейк — о смерти писателя. Знаменитый юрист Кони верил в то, что будет такое правильное время, которое всем воздаст по заслугам, всех расставит по местам. Но ни одной подробной биографии Боборыкина до сих пор не написано.
«Когда-нибудь и эта скромная литературная личность будет оценена». Так Боборыкин написал о критике Эдельсоне. Нужно ли говорить, что ни личность Эдельсона, ни его труды сегодня никому не известны и никому не нужны? Нет никакого торжественного храма литературы, где хранится память о праведниках слова и мучениках с пером в руках, а есть обмелевшая память человечества и полное забвение тех, кто писали и страдали. Такого поругания литературы и человеческой жизни Боборыкин предположить не мог.

Мемориальная доска памяти Боборыкина на Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде. Фото: Википедия
Служение литературе, которым он гордился, — какой такой литературе? Разве существует какая-то единая, цельная, отдельная от людей, висящая над миром священная литература, которой следует служить? Разве литература не дело рук людских, совершенно такое же, как все другие человеческие дела? Сам он делил писателей на «генералов» и обычных, причем первым генералом именует Тургенева — однажды видел его в сиреневых перчатках — получающего 400 рублей за лист, вслед за ним и примерно столько же Толстой, а дальше все остальные, с гонораром сто рублей за лист. Тоже неплохо. Но что же на этой фабрике текстов за деньги святого и чему тут служить всю жизнь?
Думал ли он так? Разочаровался ли в своей вере в литературу старый русский писатель, забытый всеми в Локарно, интеллигентный наивный простак, веривший в знания и науку — Бакунин как-то раз в шутку обозвал его «попом науки» — трудившийся всю жизнь, чтобы создать себе и любимой жене достойную старость — и на старости лет потерявший все накопления и очутившийся приживалой в швейцарском отеле?
Последние мысли Боборыкина нам неизвестны, за два месяца до смерти его разбил паралич, и он лишился речи. Умирал в молчании, без последних слов.
Коротким всплеском некрологов и воспоминаний отозвалась на его смерть русская эмигрантская пресса и пошла писать дальше свои новости. Что стало с женой Боборыкина Софьей Александровной, русской старушкой в Лугано, где жила, как жила? Сохранилась ли могила Боборыкина на кладбище в Лугано? Неизвестно.
Этот материал вышел в первом номере «Новая газета. Журнал». Купить его можно в онлайн-магазине наших партнеров.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68


