Пишут, что антиутопия Оруэлла «1984» к концу прошлого года входила и в топ книжных продаж в России, и в топ самых воруемых книг. Люди, кажется, занялись осмыслением реальности, в которой они оказались. Может ли общество выйти из антиутопии, в которую само себя загнало? Учитель Ирина Лукьянова продолжает цикл разговоров с политологом и философом Денисом Грековым.
Свободу отдать легко
— Начну издалека: мы сейчас с семиклассниками читаем антиутопии, они как раз это любят. И в каждой видим, как люди охотно меняют свою свободу на что угодно: на предсказуемость, на стабильность, на условную Турцию «олл инклюзив», на великую мечту, на ощущение принадлежности к своей группе… Свободу отдают очень легко. Почему?
— Легко? Это обманчиво. Это не значит, что действительно легко. Это значит, что человеку по какой-то причине это больше нравится. Причем легко заметить, что у таких выборов высокая отложенная стоимость.
— То есть это легко для человека, но трудно для общества?
— И для человека тоже в конечном счете. Просто потом.
— Когда он обнаруживает себя полностью недееспособным?
— Или когда он вдруг обнаруживает себя в окопе.
— Может быть, про свободу можно начать понимать, когда уже ты сыт и в безопасности? Когда уже прошел первые ступеньки пирамиды Маслоу?
— Пирамида Маслоу — это не про лестницу потребностей, а скорее про лестницу мотивации. Нас мотивируют, да. И часто управление строится тоньше, чем мы думаем. Уже довольно давно известно, что уровень жизни есть элемент управления массой. Но управлять человеком, который не может толком удовлетворить свои потребности, в конечном счете проще, чем тем, который не может удовлетворить свои желания.
То есть с точки зрения тирании выгоднее держать свое население в состоянии неудовлетворенных потребностей или едва удовлетворенных потребностей, скудости.
— И распределять ресурсы.
— Да. Например, вот эта безумная перекредитованность части населения в регионах. Что делают с людьми?
— В общем-то в рабстве держат. В кабале.
— Практически. Чтобы нормально жить, они вынуждены одни кредиты менять на другие кредиты. А как вырваться из этого замкнутого круга?
— Только объявить себя банкротом.
— Это один вариант. Но вырваться он все равно не поможет: любой заработанный избыток сверх минимального будут отнимать. То есть это — то же самое рабство, просто без звонков коллекторов.
— Ну еще завербоваться в армию на контракт.
— Тоже способ получить хоть какие-то деньги. Причем для этой части населения это бешеные деньги, каких они никогда в руках не держали. Но эти бешеные деньги — это две-три тысячи евро.
— С точки зрения населения в Европе — не сказать, чтобы очень много.
— С точки зрения населения в Европе это едва средняя зарплата. То есть они, по сути, продают и свою жизнь, и свое будущее, и все на свете за среднюю зарплату среднего европейца.
— И получается замкнутый круг: бедность воспроизводит сама себя, неграмотность воспроизводит сама себя, — ну не буквальная неграмотность, а невысокий уровень образования. Население выбирает соответствующую власть, та держит его в том состоянии, в котором оно уже пребывает. И все воспроизводит само себя. Какие выходы из этого замкнутого круга известны науке?
— Выход в общем давно известен. По сути, это все те же известные нам институты: это независимый суд, это законы, которые не дают большинству навязывать волю меньшинству, а заставляют договариваться. Это свобода ассоциаций, это свобода средств массовой информации.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Сорок лет по пустыне
— Вот мы с вами видели своими глазами, как все это у нас сначала пытались худо-бедно построить, а потом все построенное стремительно было свернуто, ликвидировано и практически уничтожено дотла. Никакие защитные механизмы и системы сдержек и противовесов не сработали. Где те грабли, на которые наступило общество?
— Легко, конечно, сказать, что люди виноваты сами. Потому что они все это не защищали. Но это будет рассказ про то, что нам опять дали неправильный народ. Это не совсем так. Проблема скорее в том, что мы имеем дело с наследием Советского Союза в головах.
— И надо сорок лет всех водить по пустыне.
— Может быть, и так, потому что те социальные формы мышления, которые сейчас воспроизводятся так успешно, закладывались еще в тоталитарное сталинское время.
— Я часто думаю, что это не тоталитарные способы мышления, а просто самые глупые, самые простые, самые поверхностные решения, которые быстро приходят людям в голову. Что принимаются они в основном не от большого ума и от полной непривычки советоваться со специалистами и слушать их.
— С одной стороны, это так. Но это тем не менее формы мышления, которые характерны именно для массового общества. Отчасти они естественные, человеческие, природные. Просто тоталитарный режим научился эксплуатировать именно естественные природные, психологические — точнее, психические особенности человека. И он на них выстраивает свою психоэкономию, опирается на нее для сохранения себя, для сохранения власти и для осуществления власти. То, что в своей основе нормально, в случае опасности является механизмом мобилизации группы.
Наша психика — это психика существ, живущих в группе по тридцать особей максимум. В случае нападения на эту группу, какой-то опасности, конфликта с другой группой и так далее активируются все эти особенности, и тоталитарный режим их эксплуатирует.
И тогда как раз и наблюдается как примитивность решений: они для ситуации, когда надо все делать быстро, максимально просто, эффективно и всем вместе сразу. Изначально для таких ситуаций все это в принципе работало. Но мы-то живем уже в другом мире.
— И в этом мире появляется разочарование в способности общества себя хоть как-то защитить. Вот мы читаем с детьми «Трудно быть богом». Вот мы смотрим на этот несчастный мир, где книжников уничтожают быстрее, чем они успевают появляться. Тонкий слой сливок снимается быстрее, чем они образуются. Еще молодой Чуковский в начале ХХ века говорил, что наша культура всегда находится в состоянии после погрома. Погром прошел — прилавки растоптаны, товары разбросаны, фрукты передавлены. И тут культура ползет откуда-то, как старуха с корзинкой лука. Выползла, только успеет разложить свои луковицы — опять погром. Может ли общество успеть хоть как-то нарастить внутренние механизмы самозащиты?
— Ну либо оно это сделает, либо исчезнет.
— Что можно считать исчезновением, если речь идет о большой стране с населением в 140 миллионов?
— Не выиграет в конкуренции с другими.
— Впадет в политическую и экономическую зависимость?
— Скорее да. Но и она рано или поздно перерастет в растворение. Не хотите развиваться — будете вторичной экономикой. Если раньше зависели от рынка развитых стран, теперь будете зависеть от рынка китайского, который зависит от рынка развитых стран.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
— Чем глубже провал в зависимость и невежество, тем ниже уровень жизни, тем легче управляемость. И все это — пике, из которого уже не выйти. Вот в том самом «Трудно быть богом» Румата размышляет, а что с ними делать-то? Пригнать им гипноизлучатели на орбиту? Устроить принудительную позитивную реморализацию? Но тогда это не будет их собственная история, их собственный выбор. Что сделать, чтобы они просто друг друга физически не уничтожили?
— Но вроде бы там, на планете, это не единственное государство? Есть и другие?
— Ирукан есть, торговая республика Соан есть.
— Вот. И вот этот благополучно выражающий сам себя Арканар — чем закончится?
— Видимо, вымрет.
— Либо вымрет, либо будет зависим от какой-нибудь торговой республики или еще от кого-нибудь. Либо будет вот так идти в хвосте все оставшееся время. Это та цена, которую платят за подобного рода управление. И эта плата очень пролонгирована в будущем. То есть за это рассчитываются еще поколения спустя — так же, как мы, наше поколение, сейчас рассчитываемся за сталинский тоталитаризм, за то, во что превратилось это государство в тридцатые годы.
— Выходит совершенно ветхозаветная история: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. И отвечать будут они до третьего и четвертого поколения. Глядим на три-четыре поколения вперед — и там ничего хорошего.
— Но это сложная ситуация, потому что это можно изменить только через массовый осознанный выбор. А массовый осознанный выбор требует того, чтобы массы что-то осознали. А им не дают это сделать.
— И даже чисто теоретически выхода нет?
— Ну почему, он возможен, этот выход. Просто для этого требуется принимать осознанные рефлексии и усилия, проявлять какую-то волю, в том числе политическую, строить институты и соответствующие механизмы. Но это не получится сделать частным порядком. Это можно сделать только как культуру. Как социальное движение, как проект восстановления даже не страны, а общества.
Начинать с достоинства
— А каким мог бы быть такой проект восстановления общества? С чего начинать, на каком этапе к чему переходить? Насколько вообще реально, чтобы общество, лишенное доступа к механизмам демократии, действительно в этот проект включилось?
— Ну, во-первых, как мы в прошлый раз говорили, надо менять систему образования. И воспитания. Это, наверное, самое важное. Причем менять ее не с точки зрения содержания образовательных программ, а с точки зрения того, чтобы у людей перестали отнимать достоинство.
Очень важно сделать так, чтобы достоинство осознавалось как априорная характеристика личности.
— Ну, тут сейчас все учителя закричат, что не достоинство ученика надо защищать от учителя, а наоборот — достоинство учителя от ученика. Что дети сейчас такие отбитые, что скажут учителю — вы никто и звать вас никак, я вас слушаться вообще не обязан. Наоборот, у нас в основном все обеспокоены тем, как защитить достоинство учителя.
— И это правильно. Достоинство учителя нельзя защитить с помощью отъема достоинства у ученика. И наоборот. Таким образом, вы лишите достоинства обе стороны. Просто у одной стороны останется власть, но достоинства тоже не будет.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
— Многие учителя, особенно старшего поколения, часто вообще не понимают, как строить отношения с учеником не на основании власти. И постоянно слышно от коллег: разрешите нам исключать этих безобразников из школы, разрешите нам ставить им двойки в году, потому что иначе это все профанация, иначе у нас нет инструментов воздействия на них.
— А исключать из школы можно.
— По закону до 15 лет нельзя.
— Нет, я имею в виду, что в принципе можно — можно это позволить. Дело не в самом действе, а в том, как оно выглядит, в его мотивации и обосновании. К примеру, можно исключить из школы с формулировкой «У нас тут есть правила. Твои действия нарушают достоинство других людей. Ты его не ценишь, поэтому мы тебя исключаем». А можно — с формулировкой «ты не достоин находиться в нашей школе». Это два разных исключения. В одном случае человек учится признавать других людей и их достоинство. А в другом случае его лишают достоинства.
— Если мы говорим о прекрасной школе будущего, что в ней еще необходимо? А то едва заведешь речь про это, как сразу у всех миллион идей, какой предмет еще включить в программу: семьеведение, экономику, риторику, а обществознание совсем не давать.
— Учить, прежде всего, надо пониманию себя. Как разбираться в своих эмоциях и чувствах. Что с ними делать? Как понимать эмоции и чувства других людей? Что такое собственное мышление? Как с ним работать? Из своей работы я знаю, что одно из самых частых сожалений у людей — это что они узнают о своей субъектности сейчас, во взрослом возрасте, а не из школьной программы. Для большинства из них многое изменилось бы в жизни, если бы они еще в детстве осознали, что у них есть субъектность и что на нее могут воздействовать, ее можно потерять, ее можно защищать. Вот этому надо учить в первую очередь. Если человек выучит математику, ничего плохого не будет.
Но проблема в том, что знание математики без знания себя очень часто производит каких-то гомункулов, которые считать хорошо умеют, а себя и других понять не в состоянии.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
— То есть нужен какой-то предмет вроде человековедения?
— Ну человековедение — это как-то очень общо. Полно специализированных программ по работе с чувствами и эмоциями, есть куча программ по работе с критическим мышлением — вот тот же Международный бакалавриат. Это все будет полезно.
— Вот если нас читают родители, чьим детям это не очень доступно, — они скажут, это у вас в столицах есть такие возможности, а нам что делать в нашем регионе?
— Надо искать онлайн-курсы, которые предлагают что-то подобное. Бывают даже для детей специализированные — по обучению эмоциональному интеллекту, работе с собственными чувствами и эмоциями, по критическому мышлению.
— Вы сейчас с детьми работаете?
— Да. В основном критическое мышление преподаю. У меня прошел небольшой курс для старших школьников. Сейчас вот закончил, теперь до осени, наверное.
— Не могу не спросить: что для школьников оказывается таким же сюрпризом или сожалением, как для взрослых?
— Для них самое большое открытие — что такое вообще есть, потому что их этому нигде не учат, и они о себе просто так не думают — о том, что у них есть какая-то субъектность, что ею можно управлять, что ее можно защищать, что есть техники, которые ее защищают от воздействий, что можно увидеть, как это воздействие строится и что ему противопоставить. Мы с ними просто учились читать тексты в медиа и применять все эти инструменты. Они начинали видеть, где и как на них оказывают воздействие, — и это стало для них открытием.
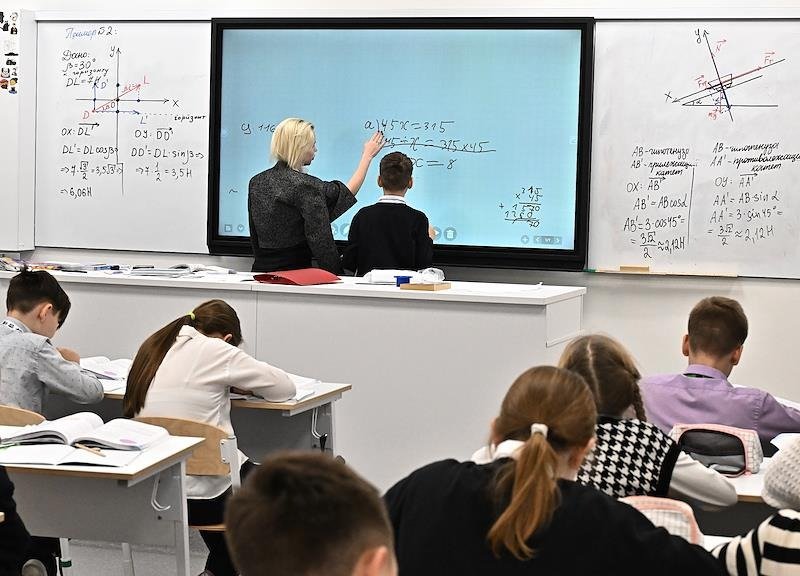
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
— Но пока эти программы станут доступны не сотне человек, а сотне тысяч человек — пройдет много времени. Вряд ли средний учитель вроде меня, если вдруг захочет провести спецкурс по критическому мышлению, сразу придумает, куда пойти, как его разработать. Получается, как в раннем христианстве: нужны несколько апостолов, они выучат учеников, те пойдут дальше распространять учение… Все это очень небыстро, если вообще можно надеяться, что они хоть что-то успеют распространить, пока их всех не переловят и не сожгут на костре.
— Примерно так.
— То есть механизмы никак не изменились с апостольских времен.
— Ну слушайте, мы живем — впрочем, я-то уже нет — в репрессивном государстве, которое выбрало вместо развития людей их эксплуатацию и использование. Сейчас длящееся вообще оплачено ценой будущего существования вот этих людей Икс. И, конечно, государство не заинтересовано в том, чтобы эти люди понимали, как их окучивают. Поэтому, конечно,
все курсы критического мышления в этом государстве либо будут курсами пропаганды, либо будут ему враждебны. Просто потому, что главное преступление в этом государстве — не думать что-то конкретное, а думать самому. Это главная опасность для него, когда люди начинают думать сами по себе.
Вот это и есть «тлетворное влияние западного либерализма», видимо. Потому что государству этому не нужен думающий человек. Психоэкономия его власти строится как раз на том, что люди не в состоянии помыслить самостоятельно.
— И, соответственно, противопоставить этому возможно на нашем этапе только индивидуальные усилия: защищать собственные мозги и мозги собственных детей.
— Ну и, собственно, отчасти это уже институционализируется: появляются образовательные проекты, которые не контролируются государством, на которые оно не может воздействовать. В Черногории открывается организованный эмигрантами Liberal Arts College, где студенты могут получать бакалавриат и идти учиться дальше с этим дипломом. Это будет вполне нормальный бакалавриат, который имеет аккредитацию черногорского образовательного заведения, и выпускники смогут продолжать образование в Европе. Есть волонтерские образовательные проекты разного рода, можно школу «Ковчег без границ» вспомнить. Есть вполне известные и очень хорошие преподаватели по самым разным дисциплинам. Правда, понятно, что университет в Черногории могут позволить себе не все родители. Но уже есть независимое образование на русском языке, доступное онлайн.
— Получается, на местах расцветает движение маленьких независимых школ, которые нельзя изловить и прихлопнуть.
— Да, и они уже работают. Это уже происходит.
А как же ценности?
— Не могу не спросить про место этики и морали в прекрасной школе будущего. Я в «Новой газете» разговариваю про образование с разными хорошими педагогами, и один из них сказал мне, что не любит разговоров про любовь и тепло, потому что школа — это про трудовую этику. Но вот опять же возвращаюсь к уроку с семиклассниками по Стругацким. Доктор Будах говорит Румате, размышляя о том, как спасать его народ: тогда сделай так, чтобы эти люди больше всего любили знания и труд. И в принципе кажется, что это хороший рецепт. Но знания и труд сделали атомную бомбу. А с другой стороны, государство как раз требует от нас воспитывать мораль и предъявляет традиционные ценности. Как будто для того, чтобы жить по-человечески, нам не хватает именно списка традиционных ценностей. Так должна ли школа воспитывать?
— Начнем с того, что школу можно воспринимать в разных парадигмах. Например, можно воспринимать ее как образовательный институт, а можно как пси-функцию, как коррекционный институт. Институт, который производит индивида с заданными характеристиками. И российское государство всегда использовало школу как пси-функцию. Задачей школы в советское время было, по сути, не образование, а именно изготовление, штамповка индивидов с заданными параметрами. И российское образование сейчас движется, по сути, в таком же точно направлении. То есть эти все традиционные ценности — это не ценности. Это, по сути, характеристики, которыми должен обладать индивид, чтобы быть исправным винтиком государственной машины. Задача школы этого индивида клепать. И в этом смысле, с одной стороны, я могу понять раздражение педагогов: у школы нет задачи учить морали, она должна давать знания. Это как раз бунт против дисциплинарной модели школы, когда она выступает в роли психбольницы. Но, с другой стороны, у школы не может не быть этой дисциплинарной функции.

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
— Ну да, в школе дети учатся существовать среди людей.
— А если мы этим не управляем, то оно все равно складывается как-то само, стихийно. И чаще складывается не очень хорошо. А люди в целом всегда повторяют одни и те же паттерны. Если ты не займешься руководством — тогда школа все равно станет дисциплинарной функцией, только предыдущего типа, который воспроизводится через социальные формы мышления — у родителей, например, которые будут требовать чего-то от школы.
— Если ты не предлагаешь свою новую модель, сама воспроизводится старая?
— Именно так чаще всего. С чем мы, собственно, и столкнулись. Это первое. Второе. Вообще-то производственная этика, или трудовая этика, невозможна, возможна только трудовая мораль. Потому что мораль — это конвенция, нормы того сообщества, в котором они установлены. А этика — это универсальные законы, которые имеют собственное обоснование, а не общественный договор. И поэтому настоящая этика всегда рано или поздно приходит в конфликт с моралью и установленной каким-то политическим режимом нормой.
— Ну и сферическая идеальная школа в вакууме все-таки должна быть озадачена скорее этикой, чем моралью?
— Да, школа в этом смысле, конечно, должна быть озадачена этикой. И этика не должна быть формальной. Этические задачи надо учиться решать на практике, в реальности. Потому что это то, с чем люди столкнутся в действительности.
— Как вообще на практике решать этические задачи? По-моему, тут совсем непаханое поле.
— Ну конечно же, непаханое. Даже простейшая этическая задача уже ставит такие вопросы, которые показывают, что такое реальный этический выбор. Ну вот хоть известная дилемма вагонетки. Если задуматься — перед каким выбором она ставит? Перед тем, который морально осуждаем в любом случае, убил ты десять человек или одного.
А в какой-то морали, может быть, убить одного хорошо. Ну то есть представьте, что у стрелки стоит с одной стороны убежденный гитлеровский нацист, а на пути с одной из сторон — десять евреев. Предсказуем его выбор внутри его системы моральных координат.
— То есть никакой правильный ответ здесь в принципе невозможен. Всякий раз это решается ситуативно.
— Конечно. И вот в этом смысле надо очень четко понимать, что этика — это не набор сферических идеальных решений в ваууме. Этика — это жестокая дисциплина. Она ставит задачи, которые в принципе дискомфортно решать.
— Условный выбор Софи, да.
— И тут важно учить детей не избегать трудных выборов. Что показывает дилемма вагонетки? Что недеяние — это тоже действие. Если вы не переводите никуда стрелку, вы все равно выбираете, куда едете. И это главное, наверное, что надо понять по поводу выбора. Потому что большинство людей искренне считают, что если они не будут ничего делать, так это и не выбор. А это выбор. И у него свои будут последствия.
Цинизм абстрактного гуманиста
— Современный человек, если он собирается быть гуманистом, часто встречается с дилеммой, когда в ситуации конфликта его оппонент не связан никакими ограничениями, а он связан. Оппонент может налить дерьма под дверь твоей старой матери, а ты не можешь так поступить с его матерью. Он будет прятать военный объект в детском саду или больнице, а ты не можешь. И ты либо проигрываешь ему бой, либо отвечаешь ему зеркально и превращаешься в него. Об этом финал «Трудно быть богом» — где Анке кажется, что у Антона руки в крови. Мы живем бок о бок с теми, кто не связан ограничениями. Отсюда вытекают два вопроса. Первый теоретический: каков выход из этой этической дилеммы? Второй практический: как себя вести с такими людьми в ситуации конфликта?
— Я бы сказал, что большинство людей чаще всего себе такие этические задачи представляет абстрактно и неполно. Прямо как классическую «дилемму вагонетки». Но это бессмысленно. При этическом анализе атаки военного объекта, прикрытого работающим детским садом, надо учесть множество деталей. Важно, чей это детский сад, в каком отношении находится то общество, чей это детский сад, к тому военному объекту, который там расположен, каковы последствия избегания удара по этому объекту для того общества, которое может этот удар нанести, какова цель такого удара, какой удар технически возможно нанести и т.д. Но самое частое, что люди упускают из виду, — это переменная времени.
Чтобы стало понятнее, могу предложить иллюстрацию. Давайте представим, что есть диктатор, который угрожает другим странам ядерным оружием. Причем он угрожает ударить не по военным объектам, а по местам с высокой плотностью мирного населения. И установлено, что множество пусковых шахт для ракет или мест базирования мобильных ракетных комплексов находится в непосредственной близости от довольно большого города.
Давайте посмотрим, будет ли этически оправдана атака этих пусковых установок. Если учесть переменную по времени, то будет минимум три разных этических задачи. Превентивная атака без признаков подготовки ядерного удара — первая. Превентивная атака при четких признаках подготовки ядерного удара — вторая. А что можно сказать об атаке возмездия, если ракеты уже выпущены и в принципе уничтожение шахт и города не повлияет на результат? Это задача номер три.
То есть только по одной переменной во времени мы имеем минимум три разных этических задачи (на самом деле можно сформулировать и больше). Теперь можно подумать, а как оценку удара по ракетным установкам меняет вовлеченность наблюдателя и принимающего решение.
Люди, которые живут в городе у ракетных шахт, и люди, которые живут в возможных местах нанесения ядерных ударов, явно будут по-разному оценивать этические условия и принимать разные решения.
Вот уже количество задач умножается. Есть ли техническая возможность наносить удары по пусковым установкам, минимизируя последствия для мирного населения, — тоже элемент наличия или отсутствия возможности для этического выбора и т.д. Плюс на это как-то может влиять пропаганда. И можно продолжать еще долго.
— Как-то уже очень сложно.
— Сложно. Но я это говорю не к тому, что «все не так однозначно». Как раз-таки, наоборот, — этические решения очень даже однозначны, просто их оценка сильно зависит от степени нашей информированности и того, какова была степень неопределенности для человека, который решение принимал, в конкретной ситуации. Так что гораздо чаще можно сказать, пытался кто-то или не пытался принять этическое решение и взять за него ответственность, чем оценить само решение. И еще можно сказать, что ситуацию этического выбора в этой версии «дилеммы вагонетки» создал диктатор, шантажировавший, по сути, совершением военного преступления. Так что этическая оценка его действий будет вполне однозначной. Вывод прост — в любой непонятной ситуации этическое решение принимать все равно придется. И оно всегда будет спорным в моменте и может быть рестроспективно переоценено.

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ
— Нам в обычной жизни все же редко приходится принимать решения, на кого наехать вагонеткой…
— Обычные мирные люди, живущие спокойной жизнью в относительно благополучном обществе, действительно этого не представляют, поскольку их этический выбор устроен иначе. В обычной жизни они скорее решают, врать или не врать, подать или не подать бездомному, помочь или не помочь какой-то животинке и т.д. И часто просто не понимают, что конфликт не решается методом диалога, поскольку эту часть на себя берут, например, полиция и суд. Поэтому они пускаются в однобокие моральные суждения в духе «а нас-то за что?!» — или же в абстрактные рассуждения в стиле «слезинка ребенка» и инфантильного требования немедленного глобального мира. И часто просто игнорируют, что если конфликтующая сторона вне рамок и, например, просто желает их съесть, то с ней нельзя договориться. Можно только не допустить или допустить это. Именно так и ведутся войны. А этика в конфликте совсем не такая же, как в споре с законопослушным соседом по дачному поселку.
Поэтому я воспринимаю абстрактно-этичную позицию как форму цинизма либо инфантильности. У кого-то есть привилегия, которая позволяет занять позицию «над схваткой», например. Или же человек просто ценит свое спокойствие выше и требует немедленного комфорта. Но в реальной жизни это так не работает. И позиция «мы не такие» тоже не работает. В ней вообще есть ложная дилемма. Как будто если нам нагадили под дверь, то или мы сделаем то же самое и станем «как они», либо будем сохранять свою «этическую чистоту». Но это не чистота, а скорее рационализируемая неготовность выйти из сферы диалога в сферу конфликта.
Ложность дилеммы же в том, что вовсе необязательно придерживаться симметричности.
Если вашей престарелой маме какая-то сволочь нагадила под дверь, не стоит отвечать тем же самым. Но ответ должен быть, и главное в нем — эффективность.
То есть надо сделать все необходимое, чтобы это больше не повторилось, сделавшие это понесли соразмерное наказание и знали, что наказание будет только усиливаться, если они это повторят.
Это и есть гуманизм в общем-то — поскольку если мы занимаем позицию «я жду трамвая», то, по сути, и позволяем гадить под наши двери и двери близких людей дальше. Мы позволяем причинять страдания при нашем невмешательстве. Этичным же будет действие, которое вынудит негодяев это прекратить, — с как можно меньшим ущербом для посторонних лиц и соразмерностью степени индивидуальной вины каждого, кто участвовал. Как-то так.
Этика скорее в том, чтобы, понеся ущерб, не терять человечность в ответных действиях, а вовсе не в том, чтобы позволять поступать с собой или близкими как угодно.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68

