Классики
Писать о еде труднее, чем ее готовить. Это так же сложно, как рассказывать о сексе. О том и другом надо говорить так, чтобы вызывать вожделение, а не описывать его. С одной стороны, нас стережет опасность оставить читателя наедине с рецептом, скучным, как монография «Техника брака», где только Довлатов нашел смешное и человечное уже в самом начале: «Введение». С другой стороны, легко впасть в ту пошлость скабрезности, когда автор пишет причмокивая. Это все равно что громче всех смеяться собственным шуткам.
Классики этим не грешили. Моя любимая кулинарная — как, впрочем, и любая другая — проза принадлежит, конечно, Гоголю, но это еще не значит, что она всегда понятна. Как странные «пундики», упомянутые в первой главе «Тараса Бульбы», где автор, захлебываясь от слюны и восторга, приводит меню украинской старины. «Не нужно пампушек, медовиков, маковников и других пундиков; тащи нам всего барана, козу давай, меды сорокалетние! Да горелки побольше, (…) чистой, пенной горелки, чтобы играла и шипела как бешеная».
Величественные до нелепости рецепты Гоголя напоминают его же сравнения, в которых, если верить Набокову, «всегда гротеск, пародия на Гомера, его метафоры близки к бреду».
В «Ревизоре» Хлестаков, напоминая автора, несет околесицу на застольные темы: «На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз». Согласно известному театральному анекдоту, одни актеры в этом месте разводили руками, обнимая очень большой арбуз. Другие, наоборот, сближали ладони, чтобы показать, какой он маленький, хоть и дорогой. Но только Михаил Чехов продлил Гоголя и нарисовал в воздухе руками квадрат, изобразив арбуз с прямыми углами. Теперь в Японии такие (сам видел) выращивают — чтобы в ящик помещались. Но прагматика убивает гротеск, который живет тем, чего нет.
Певец «хмурых людей» — и их аппетита — Антон Чехов разоблачал бескрылый быт обывателей так убедительно, что тот обнаруживал свою обратную сторону, оборачиваясь иногда утопией. Особенно тогда, когда его герои едят. Даже в безысходно пропащем мире «Вишневого сада» упоминается не только варенье. «В прежнее время вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили. И сушеная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая». За репликой Фирса стоит тень полной, упорядоченной, мастеровитой жизни.
Но лучше всего чеховские рецепты работают в малой прозе, где читательский аппетит доходит до истерики, как это случается со мной каждый раз, когда я перечитываю откровенную кулинарную порнографию — «Сирену».
«Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей наготе, чтоб соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь этакий кусище и пальцами над ней пошевелишь вот этак, от избытка чувств. Станешь ее есть, а с нее масло, как слезы, начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком». Неудивительно, что после описанного обеда герой отправляется в созданную сытым воображением фантазию: «кажется вам, что вы не в кресле у себя дома, а где-нибудь в Австралии, на каком-нибудь мягчайшем страусе».
В угрюмые и в кулинарном смысле брежневские годы мы чаще всего зачитывались Гиляровским. Можно сказать, что мы им закусывали скверную водку на наших скудных пирах, и выходило не хуже, чем у автора. Будучи великим очеркистом, восходящим к «натуральной школе», Гиляровский не видел в еде ни символа, ни метафоры, ни гиперболы — одну реальность, которая представлялась фантастической нам, а не ему. Больше всего мое незрелое воображение смущал грандиозный минимализм обеда для московских сибиряков в трактире Лопашова. «На меню стояло: «Обед в стане Ермака Тимофеевича», и в нем значилось только две перемены: первое — закуска и второе — «сибирские пельмени». Было приготовлено 2500 штук: и мясные, и рыбные, и фруктовые в розовом шампанском».

Петр Саруханов / «Новая газета»
Эта картина, напоминающая полотно Кустодиева «Московский трактир», хотя там не едят, а пьют, и только чай, донимала меня до тех пор, пока я, не дождавшись такого обеда на его родине, не приготовил его сам в Америке. С мясом (говядина с бараниной) проблем не было, с рыбой (рубленый лосось с травками) тоже, а вот с фруктами вышла загвоздка. Не зная, что кладут в такие пельмени сибиряки, я набрал дикой черники в Катскильских горах, начинил ею кружки теста и честно сварил в розовом — от Клико! — шампанском. Честно говоря, овчинка выделки не стоила. Но, как теперь говорит продвинутая молодежь, гештальт закрыт.
Кино
Камера любит еду, хотя изображать ее на экране не проще, чем тот же секс. Застольные сцены помогают укрепить связь между реальностью и ее кинематографической версией. Экран с его стремлением к бескомпромиссному реализму лишен условности других зрелищных искусств. Театральные обеды — всегда бутафорские, зато киношная еда — бесспорно настоящая, подлинная, живая. И это придает кинонатюрморту особый соблазн и специфическую прелесть.
Чтобы зрители сопереживали «целлулоидному» обеду, он должен чем-то отличаться от нашего. Быть убедительным, увлекательным, экстравагантным или уликой. В детективах, кстати, сыщики, как голуби, всегда едят. Это делает их человекообразными и позволяет ненадолго вырваться из клише детектива, ибо еда не только оживляет кадр, но и придает некоторую достоверность самым безумным проделкам сюжета.
Талантливо изображенное застолье часто становится знаменитым — вроде роскошного банкета в «Крестном отце». Другой пример — куда более скромный, но и более изящный обед в «Золотой лихорадке» Чарли Чаплина, где маленький бродяга компенсирует скудость трапезы (вареные ботинки) застольными манерами.
В советском кинематографе натюрмортами прославились потемкинские пиры в «Кубанских казаках». Специально пересматривая этот фильм на предмет его гастрономического содержания, я обратил внимание на исключительно вегетарианскую направленность кинематографической «клюквы». В «Кубанских казаках» гуляющие по ярмарке герои проходят мимо пяти фруктово-овощных лавок.
Казаки питаются исключительно растительной пищей: арбузами, виноградом, помидорами, кукурузой и огурцами. Идейное вегетарианство свойственно соцреализму в целом. Коммунисты обещали народу рай, а в Эдеме Адаму полагалась вегетарианская диета: «от всякого древа в саду ты будешь есть».
Постепенно еда на экране, как это случилось и с живописными натюрмортами, отклеилась от сюжета и превратилась в отдельный жанр. Удобный пример и образец — «Джулия и Джулия» с непревзойденной Мерил Стрип. Она играет Джулию Чайлд, автора библии поваренных книг «Как овладеть искусством французской кухни». Подробно отвечая на этот вопрос, фильм ничем больше и не интересуется. Что позволяет его отнести к редчайшей ныне разновидности беззастенчивой идиллии, где, как в тех же «Кубанских казаках», лучшее сражается с хорошим за бесконфликтную, сытую и вкусную жизнь.
Отсюда уже один шаг к бесконечным кулинарным шоу — от японских кухонных самураев до британских пекарей-любителей. Я люблю смотреть на тех и других, переживая вместе с героями. Первые переносят неудачи стоически, как Тосиро Мифуне. Вторые — не исключая крепких бородатых мужчин — часто плачут над рухнувшим многоэтажном тортом.
Бабетта
Шедевр кулинарного кино — датская картина «Пир Бабетты» (1987). Получив «Оскар» и пальмовую ветвь в Каннах, она вошла в золотой фонд своей родины, которая сочла фильм национальным сокровищем. Он остается лучшей картиной о еде, где та претерпевает акт трансфигурации, не переставая быть парадным ужином на 12, как в Тайной вечере, персон.
В угрюмом датском захолустье живут две сестры. Старые девы в немарких платьях, они профукали свое счастье, когда еще в далекой молодости отказали блестящим женихам ради скудной жизни внутри церковного (сектантского) кружка. На дворе конец XVIII века, и к ним прибилась спасавшаяся от Французской революции беженка Бабетта, которая стала у сестер бесплатной экономкой. В один прекрасный день она выигрывает в лотерею 10 тысяч франков. На все деньги Бабетта устраивает невиданный в этих краях пир. Лодки привозят с «Большой земли» драгоценные яства и вина, в ход идет дивное кулинарное мастерство Бабетты, которая в прошлой жизни была шеф-поваром лучшего ресторана Парижа.
И вот застолье — столь роскошное, что гости-пуритане сочли его греховным, но не смогли справиться с соблазном и отказать себе в наслаждении.

Петр Саруханов / «Новая газета»
В центре фильма — не растаявшие от деликатесов едоки и даже не Бабетта, а сам пир, на который она спустила чудом обретенное состояние. Принесенная жертва исполнила предназначение, общее для любого художника: создать такое произведение искусства, которое изменит людей, вызовет решительное преображение их натуры, сделает их лучше. Выше этого уже ничего быть не может. Если, конечно, не считать рая, где, как говорит одна из сестер, Бабетта будет угощать ангелов.
Учитывая роль такого пиршества, глупо было бы не привести полное меню обеда из фильма:
- черепаховый суп, херес «Амонтильядо»;
- гречневые блины а-ля Демидофф с черной икрой и сметаной, шампанское «Вдова Клико»;
- перепелки в тестяных саркофагах с фуа-гра, красное бургундское;
- ромовая баба с фигами и засахаренными вишнями, шампанское;
- сыры и фрукты в ассортименте, сотерн;
- кофе, коньяк Grande Champagne.
Натюрморт
Этот жанр долго был пасынком изобразительного искусства, выше всего ценившего религиозные и исторические сюжеты. Он взял реванш, когда помог живописи развести форму с содержанием.
Натюрморту свойственна тавтология породившей его вывески. «Я есть то, что есть»: селедка, изображающая селедку. Увлекшись исследованиями фактуры и приключениями света, натюрморт, постепенно избавляясь от нравоучительной проповеди, освободил живопись от диктатуры идеи и темы. Он давал высказаться изображенным предметам, превращая полотно в театр вещей. Соблазнившись фундаментальной простотой еды, натюрморт обновлял искусство, обучая его вещной азбуке.
Один такой натюрморт мне удалось купить в новоанглийской деревне сектантов-шейкеров в Хэнкоке. Трясуны, как их называют в России, верили, что второе пришествие Христа уже состоялось, Царство Божие наступило и они первыми вкусили от его плодов.
Их мир был совершенным и завершенным. Он не нуждался в будущем, а значит, в детях. В раю, говорил Христос, не женятся.
Тень совершенства падала на все, что делали шейкеры. Их ремесло не терпело декоративных избытков. Зато каждая без исключения вещь — метла, шкаф, знаменитые на всю Америку овальные коробки для мелочей — сияет предельной добротностью, «идеальностью»: лучше просто не сделать.
Как в дзене, столь созвучном практике шейкеров, красота здесь рождалась невольно — от брака утилитарной пользы со страстным усердием. При этом сами мастера не интересовались искусством, да и не знали его. Но благочестие труда вдохновляло все, что они делали.
В том числе ту небольшую картину, которая уже сорок лет висит у меня на стене. Шахматная рамка, тщательно загрунтованный холст, а на нем — чисто-красное яблоко с зеленым листком. Написанное честно и прямо, оно светится изнутри и приковывает взгляд. Сразу видно, что это — пра-яблоко. Так, должно быт, выглядел плод с Древа познания. Жившие в строгом безбрачии шейкеры не познали его вкуса. Поэтому они, собственно говоря, и вымерли.

«Сразу видно, что это — пра-яблоко. Так, должно быт, выглядел плод с Древа познания. Жившие в строгом безбрачии шейкеры не познали его вкуса. Поэтому они, собственно говоря, и вымерли».
Сутин
Его интересовало не сходство с моделью, а выразительность мазка, за приключениями которого можно следить, уткнувшись в холст. Как у Ван Гога, тут повсюду густые пласты сумасшедшего желтого кадмия. Но Сутин идет дальше. Его краски сгущаются от картины к картине, превращаясь в оргию цвета, ведущего самостоятельную, независимую от образа жизнь. Если мазок Шагала, с которым его естественно сравнить, напоминает о мозаике или витраже, то у Сутина кисть, оставляя на полотне сгустки краски, ведет к лепке, вырываясь в трехмерный мир.
Шагал и Сутин вышли из местечковой среды, где художнику не было места. Оба выросли в религиозных семьях, других евреев в местечках не было. Вырвавшись в большой мир, они сохранили связь с корнями, но по-разному.
Для Шагала местечко — рай. Он всю жизнь писал этот восхитительный мир, где коровы разговаривают, где люди летают от счастья, где даже кабак всегда уютный.
Для Сутина местечко — ад. Он никогда не писал его, чтобы не возвращаться в детство, но не мог избавиться от воспоминаний, когда создавал свои ни на что не похожие натюрморты.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
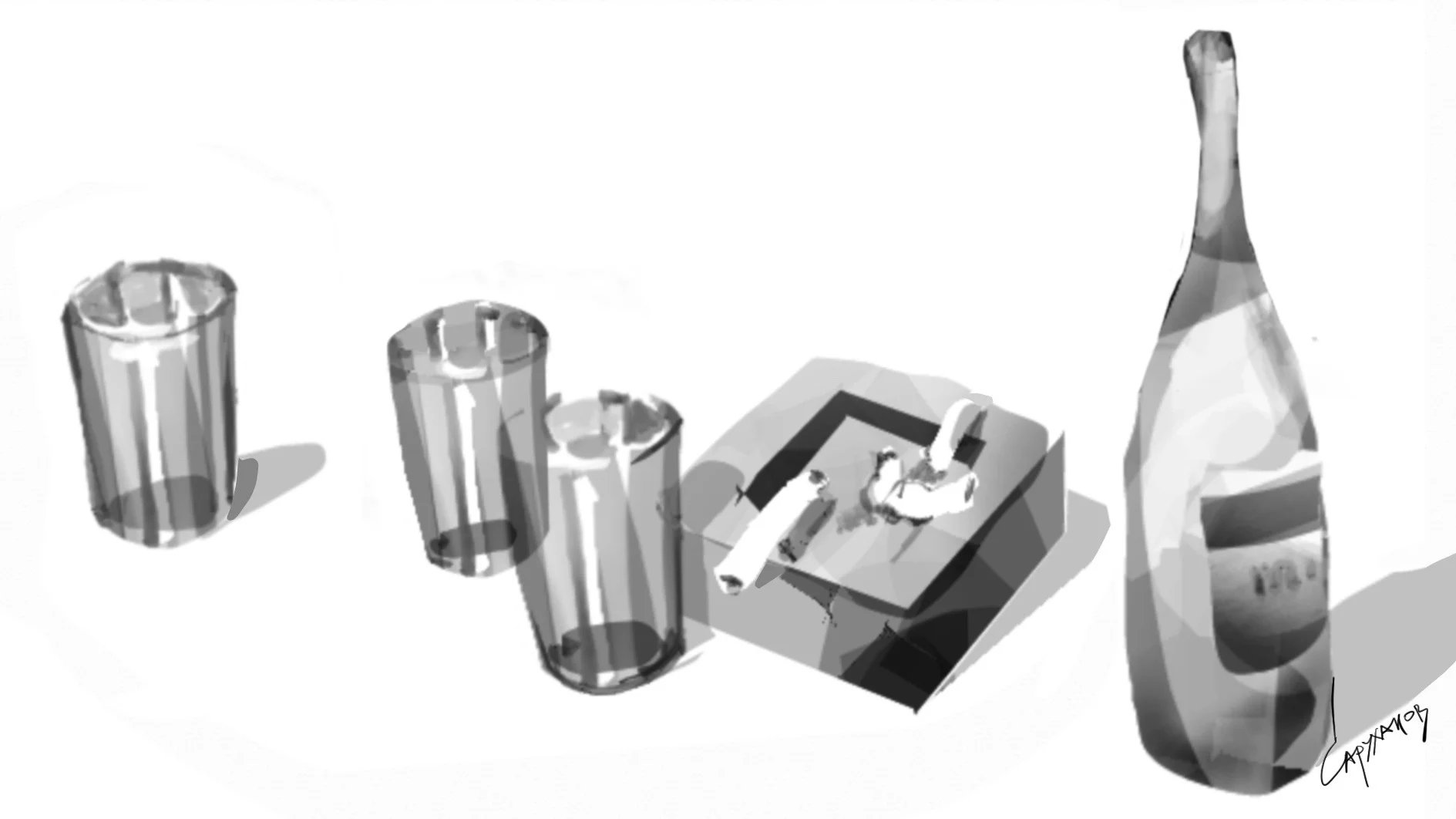
Петр Саруханов / «Новая газета»
Мальчиком Хаим увидел, как резник перепилил горло гусю. Невырвавшийся крик вернулся к взрослому Сутину в середине 1920-х, когда художник в экстатическом состоянии, усугубленном упорным постом, писал страшный «птичий цикл». На всех картинах — по одной убитой птице, и каждой он возвращал индивидуальность, о которой мы не думаем, открывая холодильник. Это не бойня, а казнь невинных. Как в гаитянском вуду и бразильской макумбе, курица тут заменяет двуногую жертву — нас. И чтобы мы ощутили ужас положения, Сутин пишет своих птиц распятыми, в борьбе и агонии.
Куриная голгофа — вовсе не призыв к сочувствию. Вегетарианство — это паллиатив, не отменяющий насилие, которое вечно нас сопровождает, делая возможным «кровавое искусство жить» (Заболоцкий).
Понимая, но не принимая законы природы, Сутин делал видимой их невыносимую жестокость. Этим он возвращал бессюжетной живописи авангарда притчу и мораль, без которой не обходился классический натюрморт.
По Леви-Строссу граница варварства и цивилизации проходит между сырым и вареным. Дикари пищу не готовят, а едят какая есть. Примерно то же можно сказать про традицию натюрмортов у ее мэтров. Фламандцы изображают пищу сырой, голландцы — приготовленной. Охотничьи трофеи у Снейдерса предназначены скорее для чучела, чем того скромного застолья, которое так любили писать его голландские преемники.
Сутин шел третьим путем. Его натура — не сырая и не вареная, а именно что мертвая. И это все меняет.
Мушкетеры
Моя любимая литературная трапеза была накрыта на бастионе Сен-Жерве, где, попутно отражая атаки мятежников-гугенотов, завтракали мушкетеры Дюма.
Завтрак этот был, прямо скажем, странным. Начать с того, что в семь утра в харчевню заходили офицеры, чтобы «выпить мимоходом стакан вина», чем живо напоминали бурлаков из Гиляровского, которые завтракали водкой.
Еще удивительнее жанровая сцена в той же харчевне. Драгун, «державший насаженного на саблю гуся, которого он принес зажарить», кричит трактирщику:
— (…) живо подставьте противень, чтобы не потерять ни капли жиру этого драгоценного гуся!
— Он праф, — сказал швейцарец, — гусини шир ошень фкусно с фареньем».
Нам, привыкшим есть с утра овсянку на нежирном молоке, меню мушкетеров, перебравшихся на бастион, чтобы поговорить за едой без лишних ушей, тоже напоминает не легкий завтрак, а решительный обед. Каждый тут нашел себе дело согласно своему характеру.
Атос возмущается тем, что «каналья трактирщик всучил нам Анжуйского вина вместо шампанского». Стоя на страже, Гримо молча «грызет хлеб с котлетами», под которыми надо понимать бараньи отбивные. Портос нетерпеливо протягивает тарелку, и Арамис изящно, как ему и положено, «разрезает жаркое». Это меню не идет в сравнение с тем ужином, где мушкетеры, боясь яда, ели яйца всмятку, запивая их водой, за которой осторожный «сам сходил к ручью».
Прелесть этой кулинарной главы определяет не что, а где едят герои. Завтрак на передовой придает еде сакральный оттенок. Под обстрелом врага трапеза на бастионе в один момент может оказаться последней для любого участника, если не всех сразу.
В «Трех мушкетерах» этот эпизод не играет существенной роли в сюжете. В нем нет и здравого смысла, якобы свойственного ясному галльскому уму. Нет тут и военного умысла, тем более что нам все равно, кто выиграет битву за Ла-Рошель.
Выходку мушкетеров оправдывает исключительно свободная и бесцельная игра мужества с капризом, которую французы считали своей национальной чертой и называли Élan vital. Генералы Первой мировой превратили этот волевой импульс в военную доктрину, ставившую дух французских солдат выше их вооружения. Вера в нее привела к тому, что французский генштаб просто не учитывал возможность отступления.
Сомнительная батальная мудрость оборачивается живописным эффектом каждый раз, когда возникает роковая ситуация: «пир во время чумы». Застолье вблизи смерти или даже с ней освящает еду. Обед преображается в ритуал жертвоприношения.
Особенно если в отличие от «Трех мушкетеров» все кончается не хорошо, а очень плохо — как в самом последнем, созданном за несколько дней до смерти стихотворении Алексея Цветкова, описывающем фронтовой борщ:
(…)
уже вертелись как юла
покойники в гробу
и кто-то вскинув два крыла
уже трубил в трубу
оскал обрушенной стены
предсмертный визг котов
и оклик мне из-за спины
садимся борщ готов
мы ляжем вскорости костьми
но борщ не пропущу
не пропадать же черт возьми
хорошему борщу
Голодарь
Только после смерти мамы я нашел ее приданое — книжечку Кнута Гамсуна «Пан», надписанную, чтобы не затерялась, ее девичьей фамилией. Я даже не знал, что она его любила, и открыл эту прозу сам и на другой странице.
Роман «Голод» (1890), с которого, как считал Башевис-Зингер, начался весь западный модернизм, заполнил паузу между Достоевским и Кафкой. Герой книги отчетливо напоминает Раскольникова, Христиания — Петербург, стиль — истерику. Гамсун, однако, укрупнил масштаб, убрав посторонних и второстепенных.
В книге окружающее отражается в измененном сознании автора. Заболевший, как он, пейзаж приближается к натюрморту в его исконном значении.
«Осенняя пора, карнавал тления; кроваво-красные лепестки роз обрели воспаленный, небывалый отлив. Я сам чувствовал себя, словно червь, гибнущий среди этого готового погрузиться в спячку мира».
Прочитав такое впервые, я, ошпаренный яркостью письма, решил не есть, пока не увижу мир так же остро, как рассказчик. На третий день мне и впрямь все казалось цитатой из Гамсуна, особенно запахи. Голод оказался если и не ключом познания, то отмычкой к нему.
Мы не знаем, кто и почему решил заморить этого «червячка», потому что Гамсун, убрав социальные мотивировки бедствия, сосредоточился на физиологии. На пороге смерти герой от страницы к странице продлевает пограничное существование. И это роднит «Голод» с «Голодарем». Кафка начал там, где Гамсун закончил.
Цирковое искусство голодания не было выдумкой писателя. Оно было популярным аттракционом, который Кафка описывает вполне добросовестно. У голодаря есть несколько реальных прототипов. Один из них — Джованни Суччи, который, как и в рассказе, развлекал посетителей ярмарок, сидя в клетке под постоянным надзором добровольцев (обычно мясников, замечает писатель).
То, что Кафка увидел в профессиональных голодарях своих героев, бесспорно. Но, как всегда с ним бывает, никто не может растолковать притчу так, чтобы другие не сомневались в ее смысле. Главная трудность — в фигуре самого «художника голодания» (так тоже можно перевести заголовок Hungerkünstler).
Одни критики считают его аллегорическим портретом богемного артиста, которому, говорит расхожая мудрость, положено быть голодным. Чем глубже он погружается в свое искусство, тем утонченнее становятся его достижения и тем меньше его ценит буржуазная толпа.

Петр Саруханов / «Новая газета»
Другие видят в рассказе параболу на библейскую тему. Это и несложно, если сравнить 40-дневный пост Моисея и Христа с тем «предельным сроком голодовки», который определялся, впрочем, не сочувствием к голодарю, а снижением к нему интереса «даже в деревнях». Более того, рассказчик прямо называет его «достойным жалости мучеником», правда, тут же оговаривая, что он им был «совсем в другом смысле».
В каком? В клетке голодаря есть «единственное украшение» — часы. Собственно, с ними он и сражается. Ход времени — движение без перемещения — отмечает его успехи на пути к исчезновению. В соревновании со смертью укрепляется гордыня художника. С высокомерием мастера он демонстрирует зрителям свое истощение, профанируя тщеславием свой героический пост. Между тем в Писании прямо сказано: «когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры» (Матфей, 6:16).
Обвинив голодаря в высокомерии, Кафка подготавливает нас к его предсмертной исповеди. То, что простодушные зеваки принимают за искусство, оказывается вынужденной, а не добровольной жертвой.
«Я должен голодать, — признается он шталмейстеру, — потому что я никогда не найду пищи, которая пришлась бы мне по вкусу. Если бы я нашел такую пищу, поверь, я бы не стал чиниться и наелся бы до отвала, как ты, как все другие».
Кафка возвращает рассказ к тому, с чего он начался, — к еде в ее банальной и аллегорической трактовках.
Трагедия этого метафизического натюрморта — в том, что к голодарю, как это не раз случалось в прозе Кафки, нужен особый подход. Настаивая на своей исключительности, он страдает, но не отказывается от нее. Ему нужна эксклюзивная, годная именно и только для него еда. Не в силах справиться с любой другой, он принимает свою судьбу как не добровольную жертву, а вынужденную аскезу. Инвалид желудка, голодарь уступает свою клетку бездуховной, но всеядной пантере, потому что, как я не устаю цитировать самое удивительное изречение Кафки, «в своей борьбе с миром ты должен стать на сторону мира».
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
