
Петр Саруханов / «Новая газета»
Осенним утром 1969 года из купированного вагона харьковского поезда на запыленный солнцем перрон одесского вокзала вышли два приличных на вид господина. Тот, что постарше, был не то чтоб невысок и плотен, но элегантно компактен в своей темно-синей с тонкой светлой полоской финской тройке, купленной, по-видимому, в валютной «Березке», голубой сорочке и галстуке в тон. Он весело посмотрел нестерпимо голубыми слегка навыкате глазами на заполнивших платформу серых мужчин и женщин с чемоданами, сумками и сонными детьми, плетущимися вслед; на носильщиков в мятых черных робах, безразлично и безнадежно предлагавших свои услуги экономным пассажирам, с решительным усилием волокущим свой багаж; на унылое и обшарпанное, как везде в империи, здание вокзала, и, взъерошив соломенные, коротко стриженные волосы, высоким громким голосом, так, чтоб слышали все вокруг, не оборачиваясь, обратился к попутчику:
— Ну что ж, мой юный друг, Одесса по-своему интересный город.
Подхватив тяжелый чемодан свиной кожи и невиданный на одесском перроне в столь ранний час модный заграничный атташе-кейс, именуемый в то время «дипломатом», он, не торопясь, пошел к выходу в город.
Юный друг, последовавший за ним, выглядел лет на десять моложе и до тридцати не дотягивал. Он был кругл лицом, в круглых очках, сквозь которые с жизнерадостным любопытством смотрели круглые, как говорят в городе, куда они прибыли, лупатые глаза. И хотя видно было, что он плутоват, охотная и открытая улыбка вызывала у окружающих неоправданное доверие. Он был выше своего товарища и одет в черно-серый костюм с жилетом из купленного по случаю в Днепропетровске на призовые в первенстве Украины по плаванию деньги штучного материала, который шел когда-то на шитье брюк для визиточных пар. Зауженные штаны и коротковатый бочкообразный пиджак выдавали в ансамбле стиль десятилетнего возраста, когда он действительно и был построен в Киеве у модного глухонемого портного Коли. На самом деле юный друг предполагал что-нибудь удлиненное, приталенное и с двумя шлицами, чтоб надолго, но объяснить свой замысел на пальцах не смог, а забрать материал и идти к знаменитому в городе закройщику Дубровскому не позволяло сострадание к немому мастеру и описанное уже мной желание быть хорошим.

Петр Саруханов / «Новая газета»
С черной фотографической сумкой и рыжим польским портфелем в руках он устремился за старшим товарищем, которого мы станем именовать Маэстро, каковым он выглядел, да и был на самом деле, а молодого назовем Ассистентом.
Они дошли до трамвая на привокзальной площади, который, судя по тому, что часть пассажиров вышла покурить, как это бывает на однопутной железной дороге в ожидании встречного, никуда не собирался двигаться. Сзади на рельсах без нетерпеливого звона замерли другие трамваи.
Вагоновожатый стоял на улице и кричал в раскрытую дверь прицепного вагона:
— Мадам Заяц, выйдите из трамвая!
— Где она? — волновались пассажиры. — Пусть немедленно выйдет, что за безобразие!
Безобразия тем не менее видно не было. Все не курящие сидели на своих жестких скамейках, ожидая развязки.
— Имейте на людей совесть! — призывал вагоновожатый. — Каждый раз с вами, мадам Заяц, одно и то же.
С последнего сиденья поднялась крохотная сухонькая старушка с алюминиевым бидоном в руке. Она с трудом сползла по ступенькам, и не глядя на вагоновожатого, подняла сосуд и обратилась к Маэстро, признав в нем достойного понимания человека.
— Два литра керосина, есть о чем говорить!
— Все люди доброй воли должны бороться за свои права с эксплуататорами, — сказал Маэстро.
— О! — сказала бабушка и направилась к следующему трамваю.
— Вы не знаете, как дойти до обкома комсомола? — спросил Маэстро у стоящей рядом девушки, похожей на Жаклин Кеннеди, только лучше.
— Я-то знаю! — ответила она улыбаясь.
— А что вы делаете… — начал Ассистент, заглянув в широко расставленные глаза.

Петр Саруханов / «Новая газета»
— Сегодня вечером, — продолжила она, — у меня важное политическое мероприятие.
— У-у! — излишне серьезно закивал Маэстро. — Тогда позвольте в знак знакомства подарить вам нашу книгу.
— Вы писатель?
— Это знаменитый… — встрял Ассистент.
— Не надо, — кротко улыбнулся Маэстро, заглянув в те же глаза.
Он открыл чемодан и достал роскошный альбом рисунков космонавта Леонова и художника Соколова «В космосе».
— У вас есть минута? Ваше имя? — спросил он, доставая паркер.
— Да, есть. Дина.
«Очаровательной Дине в час счастливого знакомства от авторов». И расписался за Леонова. Ассистент за художника Соколова.
— По-моему, благородно, что мы не назначили ей свидания, — сказал Ассистент фальшивым голосом.
— День только начинается, — ответил Маэстро.
Он скрылся в здании обкома и скоро вышел оттуда без «дипломата», но с броней в гостиницу «Большая московская», что на Дерибасовской.
— Через два часа у нас запись на телевидении, а вечером прием в ресторане гостиницы «Красная» в честь приезда высокой делегации румынского комсомола. По-моему, мы достаточно хорошо одеты для приема.
Они сели в троллейбус, у которого не закрывались двери, и медленно покатились под сенью платанов по брусчатке Пушкинской улицы. Около здания филармонии, построенного в старые времена для биржи с ее особенной (я бы сказал, интимной) акустикой, они увидели идущую по тротуару с подаренным альбомом под мышкой одесскую красавицу Дину.
— Не хотите ли проехаться с нами? — закричал Ассистент.
Она улыбнулась.
— Приглашать такую девушку покататься на троллейбусе… По-моему, мы теряем реноме.

Петр Саруханов / «Новая газета»
Реноме было произнесено без усилия. Из подсознания, плескаясь и отфыркиваясь, выныривало другое слово, тоже не русское, но содержания приятного и требующее немедленного осуществления — осажэ. Дело в том, что позавчера в Киеве соратники, презрев скаредность и трезвый (это прилагательное затесалось в текст случайно) расчет, отмечали свой успех в выступлении на республиканском телевидении. Оно было столь значительным, что глубокую и поучительную информацию, почерпнутую ведущим в беседе с Маэстро при немногословном участии Ассистента, было решено записать (без купюр) на пленке, чтобы показать программу истосковавшимся по духовной пище зрителям в день, когда спрос на высокоинтеллектуальный продукт особенно велик, — в субботу.
«Газета «Комсомольская правда» является кузницей молодых журналистских кадров. Она награждена орденом Ленина № 1, ежедневный тираж достигает двенадцати миллионов экземпляров», — в сущности, это все, что поведал зрителю Маэстро. Но, знаете, в то время немало это было. Немало.
Пожилой киевский актер, в доме которого путешественники уверенно посидели до отхода поезда, научил их элегантному, на французский манер, термину, означающему процедуру, знакомую многим, нуждающимся в поправке здоровья.
Высадившись утром в Харькове, они тут же выпили по стаканчику холодного шипучего вина и незамедлительно почувствовали живительное осажэ.
После повторения (чтобы термин закрепился в сознании) они, прежде чем отправиться на гигант советской индустрии — Харьковский тракторный завод, где их ждали, неожиданно для себя посетили местную галерею, в которой их никто не ждал. Там они немало душевно встревожились картиной неизвестного им живописца под названием «Маленький Володя Ульянов выпускает на волю чижика из клетки».
— Позвольте, позвольте! — скандальным тенором закричал куратору выставки Маэстро, рассматривая кудрявого херувима, показывающего ручкой на открытую в клетке дверцу: мол, лети, птичка! — Позвольте, не это ли будущий вождь мирового пролетариата В.И. Ленин, освободивший народы от нестерпимого гнета и насилия?
— Вы его узнали?
— По повадкам. Но… — тут он скорбно прервался, — время, знаете ли, безжалостно. Я видел его недавно в Москве. Где эти кудри? Где живость? А птичке, значит, удалось спастись? И сколько это стоит?
— Тридцать семь рублей. Со стеклом.
— Не-по-силь-но! Хотя светло.
И скоро они уже шли вдоль длинного конвейера, где собирали гусеничные ХТЗ. На каждом рабочем месте лежала кувалда.
— Понимаю, — сказал Маэстро. — Несмотря на щадящую точность деталей, страна любит, чтоб было много гусеничных тракторов в пятнадцатисильном исчислении.
Провожатый охотно кивнул.
В конце конвейера под плакатом «Не курить! Опасно!» стоял труженик с дымящейся папиросой и из краскопульта поливал серебряной нитрокраской мотор.
— Американцы посмотрели на наше производство и сказали, что это русское чудо.
— А трактора после сборки двигаются сами?
— Ну да!
— Да ну? Американцы правы.
Вечером на харьковском телевидении Маэстро ловко начал разговор с поразившего его производства, а уж потом сообщил, что «Комсомольская правда» — кузница журналистских кадров и обладает орденом Ленина номер один. Ведущий был ошеломлен. Ассистенту оставалось добить его, назвав тираж газеты. После чего гостей сначала повели в буфет, где восхищенно сказали, что такую познавательную программу надо обязательно показывать в субботу, а уж потом проводили на одесский поезд.
Разместившись в огромном неуютном номере «Большой московской» с окнами на Дерибасовскую, товарищи почувствовали, что осажэ напрашивается само собой, тут же направились в соседнюю пивную «Гамбринус», подробно описанную Куприным. Правда, это был уже другой «Гамбринус», да ведь и Куприн теперь не тот.
В подвале было немноголюдно. Дневные посетители сидели за чистыми вполне столами и большими бочками, официантки лениво носили кружки с естественным для заведения, судя по тому, что никто не роптал, недоливом. Одна из них с некоторой инерцией движения остановилась перед Маэстро.
— Надеюсь, вы нас обяжете парой пива, милейшая?..
— Лиза.
— Елизавета.
Она обязала их через три минуты, со скоростью небывалой в этих местах.
— Я вас узнала, — сказала официантка, глядя на элегантного прямо с утра Маэстро. — Вы нездешний.
— Узнаете вы нас завтра, если посмотрите республиканскую программу телевидения.
— Рая! — радостно закричала Елизавета крупной молодой женщине в белом (пока) переднике. — Их завтра по телевизору покажут. А у меня день рождения. Тридцать лет. Приходите! Без очереди. Швейцару скажите, что к Лизе.
Маэстро открыл портфель Ассистента, достал оттуда бронзовую на подставке дощечку с надписью «Лучшему распространителю печати» и с обворожительной улыбкой протянул официантке.
— Это еще не подарок.
Триумф на одесском телевидении превзошел, как писали тогда, самые смелые ожидания.
— Орден Ленина номер один? — восторженно прижимая руки к сердцу и недоверчиво мотая головой, всхлипывала редакторша. — Не может быть! Кузница молодых журналистских кадров… Какой образ: горячий цех, ковка заготовок для печати, горнило информации! Вы это сказали: ежедневный тираж больше, чем у «Правды»? Смело! Для Одессы это смело. Ставим на завтра в субботу, в лучшее время. Я слушала вас, как Лемешева!
Маэстро покорно и скромно склонил голову.
— Значит так… — сказал он спутнику, когда они оказались на улице, и сделал паузу: — Значит так: до назначенной встречи в верхах у нас есть два часа. В семь у памятника Ришелье нас встретит представитель одесского комсомола. Перед острой дискуссией с румынскими братьями не хотим ли мы выпить немного натурального бессарабского вина? Осажэ come осажэ! (Маэстро слыл немного галломаном.)
Крохотных полутемных подвальчиков, где стакан вина стоил никак не больше тридцати копеек, на их пути к Дюку оказалось довольно. Через полчаса они приобрели необыкновенную веселость к обыкновенно им свойственной.
В следующие полчаса, перейдя на «вы», соратники громко, словно одесситы, но с чрезвычайной вежливостью, обсуждали преимущества здорового образа жизни (в принципе!), а дальше и вовсе стали говорить, как им казалось, гекзаметром, обращаясь друг к другу: «А что, брат Гораций!»
К назначенному комсомольцами времени Ассистент, стоя у подножия памятника, отчетливо объяснял Маэстро, что этот Ришелье — не кардинал Ришелье, и, уж конечно, не вышивка ришелье, и что, если покопаться, можно найти их немало. К примеру, папа этого — тоже был Ришелье.
Заинтересованная содержательностью рассуждений вокруг них собралась небольшая толпа, из которой выделился социально активный гражданин, взявший на себя смелость от лица общественности испросить у Маэстро разрешения присоединиться к экскурсии.
— Друг мой, внезапно возникший, не я тебе избранный пастырь.
Ночь ты не просишь — дай милость для сна смежить очи.
Так и внимая иным, узнавай своей совести голос,
Слушай себя самого, если хочешь услышать другого…
— что-то в этом роде отвечал Маэстро гражданину, как вдруг увидел… и Ассистент увидел и замолчал немедля. Ну вы-то догадались: они увидели делегата одесского комсомола, высланного за ними. Делегат был в изящном черном в талию костюме и выглядел еще лучше, чем утром. Широко посаженные глаза сияли, как показалось товарищам, веселым восторгом.

Петр Саруханов / «Новая газета»
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
— День только начинается, — прозой сказал Маэстро, и они, едва не подняв Дину на воздух, подхватили ее под руки и поспешили… нет, нет, не на политический раут, а в очередной подвальчик, где выпили бессарабского, потом еще в один и вошли в ресторан гостиницы «Красная» в прекрасном расположении духа.
Зал, украшенный бордовыми бархатными портьерами, был набит до отказа. Вдоль левой стены стоял длинный стол, уставленный московской водкой, армянским коньяком и дарами одесского Привоза. Там угадывались: домашняя колбаса, плотно набитая кусочками приправленного дымком постного мяса; собственно мясо, точнее, филейная его часть, жемчужно, мерцающая на срезе; малосольная черноморская — тогда она была! — скумбрийка, совместимая с любым напитком, если этот напиток водочка; фаршированный судачок, нарезанный упитанно, с пониманием предмета, и красный на бурачке хренок к нему; тюлечка без голов цвета начищенного серебра и к тому же обложенная кружочками вареных яиц с оранжевыми «без лавсана» желтками и крымским лиловым лучком, порезанным не кольцами, но дольками; икра из печеных синеньких, как здесь зовут баклажаны, такой кондиции, что ее и жевать не надо:
выпил рюмку, положил ложку икры в рот, подержал немного для ощущения точности выбора, проглотил — и живой;
мясистые помидоры, с лицом цвета легендарных биндюжников; пупырчатые осенние огурчики, такие крепкие, что если их не то чтоб укусить, а резать ножом, издают звук рвущейся материи, только короткий; тончайшая брынзочка, цвета незагорелой девичьей груди и закопченный сыр уже цвета груди загорелой.
А вокруг стола стояли наготове официанты с блюдами легкого горячего в виде обжаренных до хруста головастых круглотелых бычков, мелкой барабульки и распластанных глосиков (как здесь зовется небольшая местная камбала). А впереди были еще основные блюда, среди которых автор выделил бы уху из белотелых сомиков, желтой стерлядки, судачков и кефали, которых привозят из-под Вилково на Дунае или из Маяков, что в устье Днестра; молочного тонкой золотистой корочки поросенка с гречневой кашей и грибами; вареники с картошкой и жареным луком, лучше которых можно было встретить только в кафе «Олимп», что на Пушкинской, 49, у Валечки, и, наконец, жареные раки (эти из Маяков уж точно).
К тому моменту, когда Маэстро, Ассистент и Дина подошли к описанному автором скорее по мечтам, чем по памяти столу, там царило напряженное молчание. Сидевшие визави по длинным сторонам одесские и румынские комсомольцы, выпив по одной стопке за нерушимую дружбу, замерли в ожидании главного вопроса.
Год назад произошли чехословацкие события, которые советская сторона трактовала как акт братской помощи, а румыны и остальной мир несколько иначе. Застолье в «Красной» было обречено на непримиримый и опасный для одесситов идеологический спор.
После того как вновь прибывшие были рассажены и за их «счастливую ногу» было выпито, главный румынский комсомолец решительно отложил вилку с ножом и громко, с нажимом, по-русски сказал:
— Согласитесь, что ввод советских войск в Чехословакию был, по существу, вторжением!
«Красная» замерла в напряжении. И тут в мертвой тишине раздался высокий громкий голос откинувшегося на спинку кресла Маэстро:
— Да какое там вторжение? Опомнитесь! Это была чистой воды оккупация!
Некоторые посетители аккуратно, не отодвигая стульев, выползли из-за столов и на цыпочках, не расплатившись, двинулись к выходу. Официанты попятились за бархатные кулисы, игнорируя неоплаченные счета. Дамы незаметно, под скатертями, стали снимать кольца.
Противоборствующие стороны ошалело посмотрели друг на друга и все вместе уперлись взглядом в излучающего спокойствие Маэстро, который, как было объявлено, прибыл из столицы и является членом редколлегии газеты — органа ЦК комсомола. Кто его знает… Может, они что-то зевнули.
Потом все молча выпили.
Говорить было не о чем. Румыны получили больше, чем просили. Одесситы не впутались в отношения между Прагой, Москвой и Бухарестом. Дальнейшее застолье потеряло политический смысл и постепенно стало превращаться в рутинную и безопасную для окружающих попойку.
Посетители ресторана вернулись на свои места.
После банкета на ночной Пушкинской улице Маэстро сказал Ассистенту:
— Ступай, проводи Дину, а я пройдусь до гостиницы, — он посмотрел на пару влажными от умиления глазами. — Дети, любите друг друга! Прощайте друг другу!..
Финал напутствия Ассистент, который, рухнув на заднее сиденье такси, тут же обнял левой рукой благосклонную секретаря, как оказалось, райкома комсомола по школам, не слышал.
— …Как я завидую молодым, особенно молодому. Первенца назовите в мою честь Славиком! — проповедовал на пустой улице Маэстро, пытаясь сойти с места и сообразить, в каком направлении ему идти.
Красавица жила в одесских Черемушках, и ехали они не быстро. Ассистент целовал ее волосы и думал, удобно ли будет завтра рано встать и, не будя Дину, вернуться в «Большую московскую» проведать Маэстро, как он там один. Потом Ассистент обнял спутницу довольно-таки вольно и, положив голову на плечо, жарко задышал в ухо.
Проснувшись от того, что машина остановилась, он сделал обаятельную улыбку, посмотрел налево и, увидев шофера в усах, сообразил, что сидит на переднем сиденье.

Петр Саруханов / «Новая газета»
— Как неудобно получилось, — сказал он вслух, не помня, получилось ли что-нибудь вообще, и полез в карман за деньгами.
— За вас уплочено, — без сочувствия сказал таксист.
«Господи, какой стыд», — подумал Ассистент и, захлопнув дверцу, увидел Маэстро, который последние метры пути к гостинице преодолевал на коленях. Ассистент поднял товарища, и они, являя собой действующую модель патриотической скульптуры «Сильнее смерти», впали в вестибюль.
— Ну?! — спросил Маэстро с пристрастием.
— Не знаю. Заснул.
— Зачем я должен перед всеми? — Маэстро трагически закинул голову. — Зачем я жертвовал собой?
Утром, пока горничная заштуковывала две аккуратные дырочки, протертые Маэстро на коленях накануне ночью, гладила его костюм и рубашку, Ассистент сходил в гостиничный буфет.
— И кефир, как врага народа, поутру я за горло тряс, — весело сказал он, передавая сидящему за столом в цветных импортных трусах и что-то пишущему в блокнот Маэстро бутылку с серебряным рыльцем на широком горлышке.
— Неплохо для оскандалившегося Ромео. Я имею в виду кефир. Учить вас надо, молодых. Личным примером!
Вошедшая в номер с одеждой Маэстро коридорная нашла постояльцев совершенно живыми и благоухающими. То есть готовыми начать день.
Лучшим местом для этого был «Гамбринус», лежащий у них буквально под ногами. Спустившись в подвал, они обнаружили, что в субботу пивная заполнена и днем. Мест не было. Крупная Рая с подносом, на котором разместилось не менее дюжины кружек, заметила их.
— Лизы еще нет, — сказала она приветливо.
— На день рождения мы придем, когда званы, а сейчас, милая, — проворковал Маэстро, приобняв Раю пониже подноса, — мы зашли просто выпить по кружечке пива.
— Девушка, девушка! — закричали из-за стола, где сидели по виду филологические студентки, прочитавшие про Сашку-музыканта и решившие вдохнуть атмосферу «Гамбринуса». — Когда вы к нам наконец подойдете?
— Когда подойду? А вам здесь вообще делать нечего, — сказала Рая беззлобно и с подносом на руке повела приятелей вглубь подвала, где у возвышения, служившего сценой эстрады со старым украшенным резьбой пианино, стояла изображавшая стол широкая и низкая бочка. За ней сидел в одиночестве крепкий молодой мужчина.
— Виталик, это наши с Лизой гости. Не возражаешь? — сказала Рая и сразу поставила три кружки пива.
— Позвольте вас угостить, э-э… — Маэстро сделал паузу, которую немедленно заполнил хозяин стола.
— Виталик. Виталик Поздняков, моряк дальнего плавания, — он протянул крепкую руку. — Откуда?
— Сейчас мы из Харькова проездом, — ответил на рукопожатие Маэстро, сделав на лице доверительную многозначительность. — А вообще из Москвы.
— Понимаю, — тонко улыбнулся Виталик. — Много, значит, ездите. А сами из Москвы?
— Именно!
— А у меня сестра в Москве. Может быть, вы ее встречали? Она кассирша в ГУМе. Надя.
— Да вы представляете ГУМ?
— Знаю. Бывал. Но у нее примета — не спутаешь.
— Какая же? — Маэстро, наклонив голову, внимательно глядел ему в глаза.
— Примета у нее — зад в восемь кулаков шириной.
Маэстро деловито раздвинул кружки и отмерил между ними расстояние.
— Это ваши кулаки, а у нее муж — боцман. Накиньте еще сантиметров десять.
— Зна-а-ачительно — восемь кулаков!.. А талия?
— В том-то и дело — талия есть. Кулаков пять в линию.
— Золотое сечение! — даже как-то крякнул от восхищения Маэстро.

Петр Саруханов / «Новая газета»
— Боцман на даче вырезал внизу калитку по ее форме и двери в ванную расширил, чтоб Надя проходила, не цепляясь.
— Могла бы боком проходить, раз вы говорите, талия есть, — вмешался в разговор Ассистент.
— Боком ей грудь мешает, — сказал Виталик. — Для работы он ей специальное сиденье сделал в кассе. Нормально. А в театре она ни разу не была. Не стоять же всю постановку.
— Вот о чем надо писать! — громко произнес Маэстро, обращаясь скорее к посетителям, чем к собеседникам. — Считаем! Кресла в зрительных залах — шестьдесят максимум сантиметров. Кулак сантиметров двенадцать-тринадцать. Множим на восемь.
Ну и как этой, в известном смысле замечательной женщине приобщаться к театральной культуре, если ширина ее жопы за девяносто сантиметров?
— Мечтаете, мальчики? — Рая поставила еще по кружке и пошла к другим столам.
Все трое оглянулись на уходящую вглубь «Гамбринуса» официантку.
— Максимум пять, — сказал Виталик.
— А там восемь! — и они задумались.
— Куда вы дальше, в Москву? — прервал молчание моряк.
— Таганрог, Керчь, Мариуполь… — почему-то произнес Маэстро.
Виталик Поздняков внимательно осмотрел сидевших напротив приятелей, одетых среди ясного с проблеском одесского дня в вечерние тройки, их гладкие после вчерашнего банкета доброжелательные лица, на рыжеватую клинышком бородку старшего, на затемненные слегка стекла очков младшего, посмотрел в их честные (немного слишком) глаза и спросил:
— Гастроли? — он сделал руками пассы, имитирующие сдачу карт.
Маэстро посмотрел на Ассистента, и они оба отрицательно покачали головой. Молодой положил левую кисть на бочку, правой сделал движение, словно бьет кием по шару, еле заметно кивнул в сторону старшего, закатил глаза вверх, дескать, «О!», и в ту же секунду перестал существовать для Виталика Позднякова, моряка дальнего плавания. Точнее, для него в этом гудящем и позвякивающем подвале все перестали существовать,
остался один Маэстро, на которого он теперь смотрел с обожанием. Он увидел игрока из тех, о ком рассказывают легенды, чьи удары, обросшие фантастическими подробностями, безуспешно пытаются повторять во многих бильярдных.
В том числе и на Пересыпи, где Поздняков был королем. Он поднялся:
— Приходите к нам через час. Пусть на вас хлопцы посмотрят. Прошу!
— Играть мы не будем, сам понимаешь, — покровительственно переходя на «ты», сказал Маэстро.
— На наших-то столах…
Когда морячок ушел, Ассистент сказал:
— Кажется, мы вляпались, — он полез в карман за расплатой и вместе с деньгами вытащил клочок бумаги: «В субботу в 7 вечера в «Гамбринусе». Дина».
— Видишь, все сходится. Пошли! — оживился Маэстро. — Учить вас надо, молодых, всему вас надо учить.
Ассистент в ранней молодости поигрывал в открытых бильярдных на Трухановом острове в Киеве. Он дружил с трубочным мастером Федоровым, в прошлом профессиональным бильярдистом, слышал его рассказы и даже прочел книгу Гофмейстера «Искусство игры на бильярде». Маэстро, тоже случалось, подходил к столам. Правда, на них бывало бог знает что, но только не шары.
По залитой теплым солнцем Одессе они дошли до летнего павильона на Пересыпи. Увидев двух персонажей в тройках, игроки остановились, сидящие на скамейках болельщики встали, Виталик положил кий и почти побежал навстречу. Поздоровавшись, Маэстро подошел к столу, пощупал борт, постучал по плите, потрогал сукно и сказал:
— Да, не Гарднер!
Тут он был прав, поскольку этот самый Гарднер, кроме посуды, ничего не выпускал.
— А кий не Страдивари, — почтительно пошутил парень в вискозной безрукавке.
— Когда Маяковский играл с художником Малявиным, — Маэстро самодовольно погладил бородку, словно он был этому свидетель, — пустой ящик из-под пива стоил двадцать копеек.
На те деньги. Знаешь, зачем нужен ящик?
— Чтоб встать на него и все видеть из второго ряда.
— Молодец! Ну-ка, покажи, что умеешь.
Парень в вискозной рубашке объявил седьмого к себе дуплетом в угол. Приложился и, клапштосом вогнав шар в лузу, посмотрел на Маэстро. Тот отпил пиво, которое принес Виталик, и одобрительно кивнул.
— А свой где? — тихо, на ухо, шепнул ему Ассистент.
Маэстро строго посмотрел на него.
— Об этом мы сейчас и поговорим, — он оперся на стол рукой и скорбно опустил голову. — Где теперь культура своего, где красота его вращения? Где, наконец, национальный образ траектории движения шара? Геометрия Евклида исчерпала себя на бильярдном столе. Она ведет в тупик. Кто бы ни победил, все в проигрыше. Посмотрите Лобачевского, изучите его, и вам станут доступны удары, которых не бывало у старых мастеров.
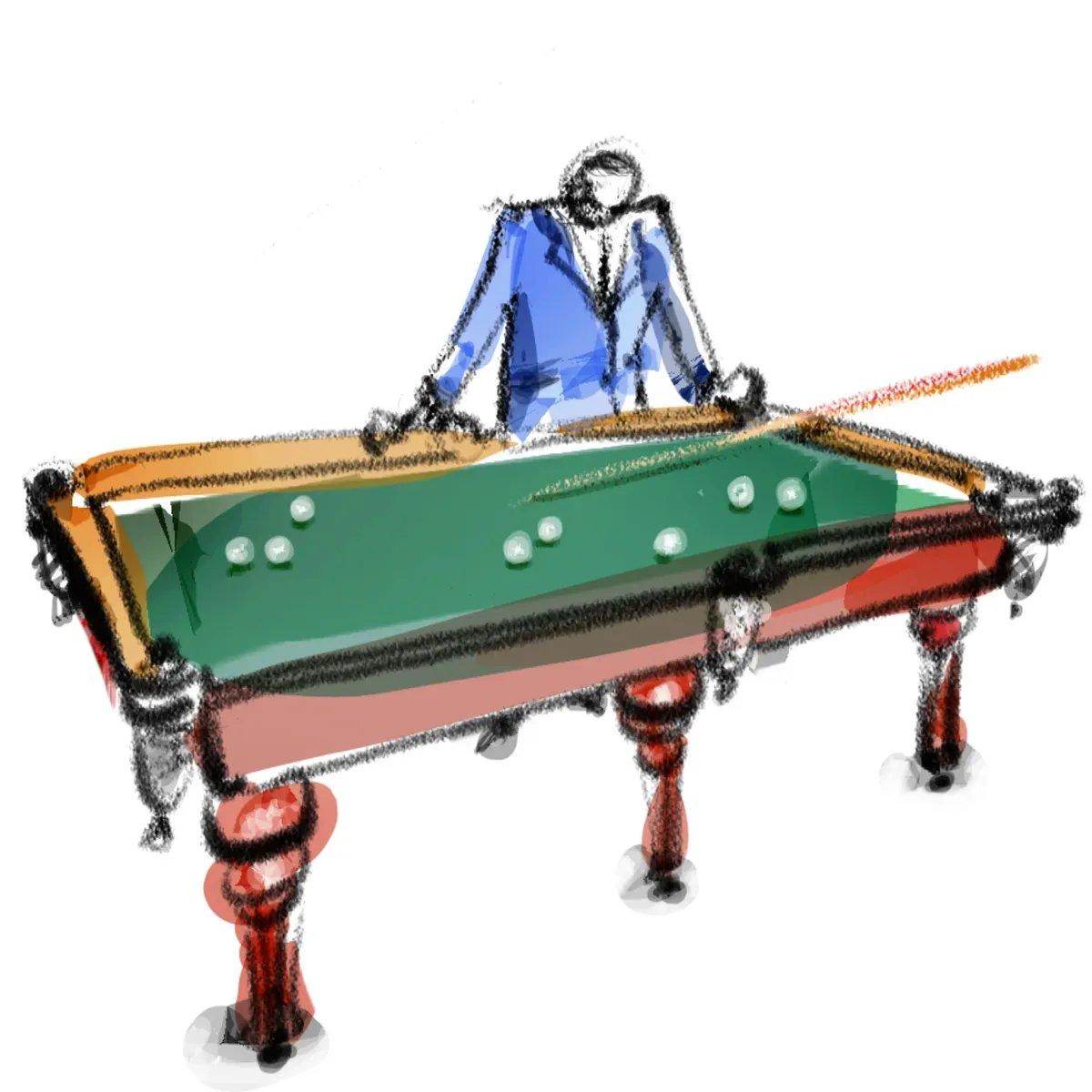
Петр Саруханов / «Новая газета»
Трехмерный шар вошел в противоречие с двухмерной графитовой плитой. Это противоречие можно и нужно преодолеть. Неевклидовый бильярд уже пришел.
— А где можно увидеть Лобачевского?
— В библиотеке, — ответил Маэстро с лукавством, и все расхохотались, понимая шутку.
— Покажите хоть один удар Лобачевского!
— Для этого нужен нелинейный соловьевский кий, а он у меня в гостинице.
Маэстро купался в лучах восхищения, он говорил о сортах дерева, годных для выдуманного им соловьевского кия, о титановых стержнях и магнитных замках складного чуда. Он вжился в образ, но любой жест мог его разрушить.
— Ну хоть один удар!
— Ребята! — миролюбиво и уважительно сказал Ассистент, беря Маэстро под руку. — Для вас это забава с небольшим заработком. Для нас — работа. Мы на отдыхе.
Маэстро покровительственно улыбнулся.
Ровно в семь к «Гамбринусу» пришла красавица Дина, взяла под руку Маэстро, подмигнула Ассистенту, и они втроем мимо длинной очереди пошли на день рождения официантки Лизы. Юбилярша стояла у стойки в открытом сарафане с белым передником и резала на куски вяленую пристипому.
— Ой, извиняюсь, у меня руки в рыбе.
— Подарки! — сказал Маэстро и протянул ей слегка неработающий японский транзисторный приемник, предназначенный вообще-то чемпиону по распространению печати, набор цветных фломастеров (для распространителей похуже) и известный читателю и Дине альбом рисунков космонавта Леонова и художника Соколова с авторскими подписями, изготовленными тут же. Подошедшая Рая, получив свой альбом, посадила гостей за знакомую нам бочку, принесла пива и пристипомы. Они немедленно выпили за здоровье Лизы, потом Дины и осмотрелись.
Теперь на полукруглом помосте под сводчатым потолком расположились музыканты. За пианино сидел сухощавый старик с длинным лицом. Он, то и дело поглядывая в зал, стучал по клавишам, не путая себя разнообразием нот: «Ум-па-ум-па — ум-па-па». Аккомпанемент его был лапидарен и в меру усерден.
Скрипач же со своей потертой скрипкой, снабженной усилителем, чтоб быть услышанным в гомоне забитого до предела подвала, был виртуозен. Его полное лицо с блуждающей улыбкой светилось радостью понимания звука и владения им. Он заставлял инструмент петь и плакать
и в мелодиях, которые ему заказывали, находил разнообразие и дикую лихость, размытую, впрочем, тоской. Заказывали какую-то советскую ерунду: «Ландыши», «Мишку», «Манечку»…
— Попроси их сыграть что-нибудь одесское, — сказал поглянцевевший Маэстро, уверенно обнимая Дину.
Ассистент поднялся на помост.
— Как вас зовут? — спросил он скрипача в паузе.
— Миша Мочман, а это старик Певзнер.
Старик Певзнер повернулся от пианино всем корпусом.
— Идите, что я вам покажу, — он открыл крышку инструмента и достал том Куприна с бумажными закладками. — Вот, читайте: «…приходил аккомпаниатор, покончивший какое-нибудь стороннее дневное занятие у портного или часовщика…». Это про меня. Я был учеником у закройщика Збаровского, а вечерами играл. И вот здесь: «Откуда-то добыли и последнего по времени Сашкиного аккомпаниатора». Это тоже про меня. На самом деле его звали Яшка.
Ассистент оглянулся на Мишу Мочмана. Тот сделал гримасу, обозначающую — что, мол, делать, было. И, прижав скрипку подбородком, развел руками.
Старик Певзнер спрятал книгу и закрыл крышку. Ассистент протянул рубль и попросил:
— «Прощай, моя Одесса, прощай, мой карантин».
— Такой грамотный заказ. А вы откуда? — спросил Миша.
— Вообще из Москвы. А теперь из Харькова, проездом.
— Таганрог, Керчь, Мариуполь? Слышали. Больше денег не надо, мы будем играть вам так. Имеете уважение.
Веселье разгоралось. Появились первые танцующие. Дина, не покидая объятий Маэстро, положила руку на колено Ассистенту. Перекрывая шум споров и звон кружек, в плотном табачном дыму Миша Мочман и старик Певзнер играли без перерыва.
«…Мама, мама, что я буду делать, когда настанут зимние холода?..»
«…Соль в мешочке, соль в горшочке, соль в корзинке, соль в ботинке. Словом, соль нам делает дела. Ах, зачем нас мама родила?»
«…Невеста же, инспектор финотдела, сегодня разоделась в пух и прах — фату мешковую надела и деревяшки на ногах».
— А в это время НЭП гулял! — весело пропел Маэстро, перекрывая музыку и шум.
И вдруг к ним, почти бегом, но сохраняя степенность, приблизилась Рая без подноса.
— Скорее! Показывают!
По липкому уже полу они поспешили за ней в директорский кабинет, где вокруг маленького телевизора «Юность» сгрудились несколько официанток. На экране, вольно расположившись в кресле, невыносимо обаятельно вещал Маэстро. Рядом с неплохо поддельным интересом ему внимал Ассистент.
— Вот они! — закричала Рая. Все оглянулись, не веря своим глазам.
— Какой подарок ко дню рождения! — чуть не плакала от умиления Лиза. — Тише, тише!
«…кузница журналистских кадров…»
Сияющие глаза Дины, устремленные на Маэстро, выдавали ее причастность к триумфу.
«Ежедневный тираж составляет…»
Все затаили дыхание.
«…свыше десяти миллионов…»
Одесса колыхнулась. Из открытых окон ни в чем не повинных жителей несся высокий голос московского визитера.
Пытавшиеся увернуться переключались на республиканский канал, но и там спасения не было.
«…награждена орденом Ленина номер один».
В тот год Украина была отмечена небывалой подпиской на газету.
Костюм же из штучного материала, за отсутствием событий ему в моей жизни соответствовавших, был по частям пущен на каждый день, а вскоре, потеряв актуальность, уступил джинсам и свитерам.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68