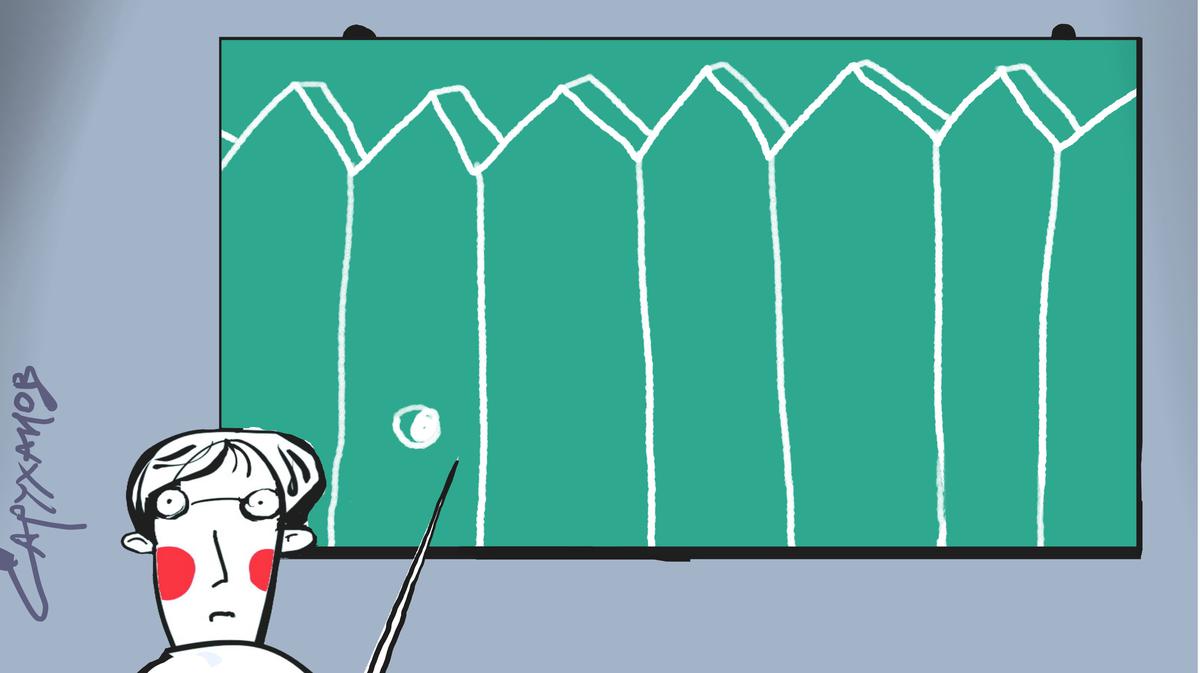Ирина Бусыгина — российский политолог, профессор, доктор наук. Пятнадцать лет она проработала в МГИМО и ушла из этой цитадели «внешнеполитической экспертизы» после Крыма, когда, по ее словам, почувствовала изменение в отношении коллег к тем, кто не согласен с решениями Кремля. В последние годы Бусыгина работает в Высшей школе экономики и возглавляет Центр сравнительных исследований власти и управления в Санкт-Петербургском кампусе университета. Поводом для нашего разговора стало «письмо ректоров» в поддержку «спецоперации»: Бусыгина одна из немногих российских профессоров, открыто выступивших против этого письма.
— Обращение Союза ректоров России от 4 марта поразило меня до глубины души. Там, конечно, терминальное единение большей части сообщества академических начальников вокруг «спецоперации», вокруг понимания образования как «государственного дела». Как вообще такое стало возможным?
— Для меня это было не только возможно, но и, увы, ожидаемо: стоял только вопрос, чем они ограничатся. До этого было еще одно обращение, более мягкое, что-то в духе «миру мир». Меня интересовало, как выскажется моя администрация, то есть Высшая школа экономики.
С большой долей вероятности это не была инициатива самих ректоров, потому что добровольно позориться до такой степени они вряд ли хотели.
Фактически в письме написано о том, что такое российский университет: это структура, обслуживающая государство и армию. Предполагаю, что это была директива сверху, когда у потенциальных подписантов есть только один безопасный выход — подписывать.
Одни, наверное, подписывают подобные вещи просто потому, что нет морали вообще. Другим это тяжело. Но, тем не менее, тут задача сделать это «хором». Я политолог и думаю в рациональных терминах: власти нужно было, чтобы подписали все. Задумано и исполнено именно как массовая акция.

Политолог, профессор и доктор наук Ирина Бусыгина. Фото: spb.hse.ru
Что кажется мне принципиально важным? Человек начинает объяснять самому себе: почему я это подписываю? А потому, что иначе меня вынудят уйти. А я не хочу. А почему я не хочу? Тут начинается убеждение самого себя (это почти всегда не очень трудно). Ведь не ради себя я не хочу уходить, а потому, что у меня есть ответственность перед студентами, я же должен обеспечивать им бесперебойный учебный процесс.
И дальше: в таких тяжелых условиях, когда сам президент, сосредоточившись и раздумывая о судьбах отечества, принимает тяжелое решение, надо пойти на это нелегкое решение и мне. Подобные рассуждения так понятны, но от этого не менее циничны.
Когда кто-то начинает говорить себе (особенно в нынешних условиях): «Я должен обеспечить бесперебойность учебного процесса. А ведь если я уйду, как обеспечить бесперебойность. Я же умею ее обеспечивать. Я же хороший менеджер».
Можно повернуть еще и так: «Если я не подпишу и меня уволят, кому будет лучше? Да никому не будет, всем будет только хуже. Я же отвечаю не только за студентов. Я отвечаю и за коллектив преподавателей».
И вот идет такая спекуляция словом «ответственность», спекуляция тем, что называется «университет».
Для меня «университет» — это не Анисимов, это не Кузьминов, для меня университет — это я (понимаю, звучит нескромно), это мои коллеги. И то, что говорят и делают мои коллеги, мне в сто раз дороже, важнее, чем то, что говорит моя администрация. Студенты идут в университет не потому, что там работает ректор Анисимов, а потому, что там работают преподаватели высокого уровня. Я вообще сторонник настоящих университетов, а не тех, которые «должны сплотиться вокруг». Мне кажется, что настоящие университеты — это невероятная ценность. Невероятная ценность — университетская культура, университетские взаимоотношения. А если вы начинаете воспринимать университет исключительно как место предоставления образовательных услуг…

Фото: РИА Новости
— Садовничему — главному подписанту письма ректоров — тоже термин «услуги» не нравится. Он считает, что университет — это служение, — тут у меня какие-то ассоциации с казармой возникают. Эта критика так называемого неолиберального университета идет с нескольких сторон.
— А я и не говорю, что университет — это не «место предоставления услуг». Я скорее говорю, что нельзя университет к этому сводить, это вредно. Я бы сказала, что я делаю принципиальное различие между бизнес-школой и университетом. В бизнес-школе действительно оказывают услуги: там люди практико-ориентированы, там учат делать проекты и там учат компетенциям. Университет — все-таки то место, которое тебя «форматирует» (в хорошем смысле этого слова, а не в смысле служения и казармы), так что — извините за такой пафос — научаешься думать, и это становится неотъемлемой частью тебя. Университет — это много креативных (и при этом разных!) людей рядом, в постоянном общении. А в понятии «служение» есть не только какая-то неразборчивость, но и угрюмость. А университет — место веселое.
— Если говорить прямо, что с вами не так, Ирина? Почему вы себя не ведете как нормальный российский преподаватель? Нормальный российский преподаватель сейчас хочет переждать. Он, может быть, все понимает про мораль и про то, в насколько скотском положении оказались эти ректоры и университеты, которыми они руководят. Но они сейчас просто хотят взять паузу, посмотреть, как все будет происходить, может быть, даже украинским беженцам помочь, но не высказываться публично.
— А я думаю, что со мной все «так». В свое время я ушла сама из МГИМО, чуть позже Крыма в 2014 году, и не потому, что что-то сказал ректор Торкунов, — то, что скажет ректор Торкунов, мне было понятно, — а из-за того, как стали вести себя мои коллеги. Ведь репутация преподавателя (и ученого, по крайней мере, в социальных науках) определяется не администрацией, а теми, кто работает рядом со мной на кафедре, на факультете. Моя репутация зависит от их репутации.

Ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов. Фото: РИА Новости
И вот постепенно мне стало страшно, что, продолжая работать в МГИМО, я буду все больше приближаться к «общему знаменателю», а самое страшное то, что этого даже не замечу.
Вы понимаете, что я имею в виду? То есть я просто с ними стану сближаться, сближаться, сближаться и потом стану такой же. И даже не замечу этого. И вот так я превращусь в труху, просто в груду трухи, которая вообще никому не нужна.
Вот такая еще мысль: если сейчас человек ведет себя «девиантным» образом, то, скорее всего, он и раньше вел себя так. Повторяемость «девиантных» решений помогает. Мне помогает то, что на сделки я старалась не идти никогда. Возможно, это не всегда получалось. Но я старалась.
На самом деле, это может быть даже выигрышной стратегией, с тобой просто перестают связываться. Это способ выживания в среде, которая, так скажем, тебе сильно противостоит, а другой у тебя нет.
У нас всех шкуры разной толщины. Кто-то может сказать «надо переждать» (как я называю эту тактику коллег, «я в домике»). Или «не надо паниковать». Паниковать — всегда плохо, да, но исходить из того, что можно «переждать», по меньшей мере наивно. Наивно рассчитывать, что от университетских преподавателей не потребуется стопроцентной лояльности, выраженной в содержании курсов и статей. Отмолчаться не получится. Курс взят, это однозначный курс, предельно четко прописанный в письме Союза ректоров. Поэтому позицию «я в домике» я искренне считаю неверной.
Отвечая на ваш вопрос, что со мной не так, я не стану говорить: «Просто я смелая и не могу молчать». Я и не смелая, и, наверное, молчать могу. Просто мне кажется, что молчать глупо: это ничего не дает.

Ирина Бусыгина. Фото: Фото: spb.hse.ru
— Это важный аргумент. Я, в общем, тоже его придерживаюсь. Возможно, кто-то из наших читателей поставил бы вопрос так. В чем, в конечном итоге, проблема позиции условного ректора Анисимова? Он простой чиновник, которого наняло государство, чтобы организовывать учебный процесс. Государство ведет «спецоперацию», и ректор Анисимов говорит: «Я лоялен своему государству». Где здесь непоследовательность?
— Ваша линия аргументации очень простая. Она делает личность плоской, в том смысле, что для него есть абсолютное, стопроцентное указание: «Если я ректор государственного университета, я придерживаюсь государственной позиции». Тогда опять-таки непонятно, зачем это заявление было сделано, если и так все понятно. Зачем еще раз расписываться в этом, зачем эта избыточная лояльность? Но, предположим, попросили (в смысле, однозначно указали на необходимость). Однако при этом и ректор, и университет теряют свою субъектность.
Тогда у нас есть вертикально интегрированный холдинг, который представляет собой университет. Я могу понять, почему Академия госслужбы или госслужащие должны это поддерживать. То есть ты работаешь на государство, получаешь зарплату от государства.
Но тогда мы опять считаем, что университет ничем не отличается от госслужбы и мы все не более чем государственные чиновники.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
И мы приходим к тому, что бюрократы, например, плодят планы и отчеты, а мы бесперебойно и беспрерывно «оказываем образовательные услуги». Служение, так сказать.
Являются ли университеты автономными субъектами? Конечно нет. И тогда у нас получается, что различия дискурсов внутри университета тоже нет и не предусмотрено. И возникает резонный вопрос, чему мы учим и зачем вообще нужны социальные науки.
— Ну как же, мы в этой логике учим примерно тому же, чему учили во времена марксизма и ленинизма, только без марксизма и без ленинизма. «Начальник всегда прав», «Мы идем правильным путем», такого рода научные истины.
— Если без марксизма и без ленинизма, то что остается? «Мы идем правильным путем» — этому не нужно учить, это же вопрос веры (к университетам не относится).
Знаете, какая еще «фишка» с этим письмом? Она связана с проблемой коллективных действий (это социальная дилемма, когда все участники выиграли бы от сотрудничества, но не способны к этому сотрудничеству из-за различий и конфликта интересов). Вот что важно: подписывают или все, или никто. Я уверена — я на этом слове, пожалуй, настою, — что, если бы довольно существенная группа подписантов этого письма отказалась бы его подписывать; если нельзя было бы достичь полного охвата, как у нас это обычно нужно (все в едином порыве, так сказать); если бы вот этого «единого порыва» не получилось бы сделать; если бы они смогли скоординироваться на слове «нет», ну не сняли бы всех. Не сняли бы всех ректоров просто для того, чтобы не плодить хаос и не показывать, что у нас нет общей линии. Власть можно было обыграть (или, по крайней мере, с ней сыграть).
Вот что меня пугает: когда есть шансы повернуть ситуацию в свою пользу, у нас все равно не используют эту опцию. Почему? Вот просто потому, что она власть?

Корпус ВШЭ на Мясницкой улице в Москве. Фото: hse.ru
— А что, если у подписантов, у того же Анисимова, может быть, и нет моральных сомнений? Может быть, он так и думает?
— Вот как раз ректор Анисимов должен был бы избегать этой подписи изо всех сил. В результате Вышка окажется самым пострадавшим из всех российских университетов. Потому что в ней сколько преподавателей работает, точнее работало, по международному найму? Теперь эти люди пишут письма протеста, очень сильные письма — и уезжают. Вышка разрушает то, что кропотливо создавала долгие годы и с большим трудом, разрушает свою репутацию.
Потери ВШЭ (и ректора Анисимова) асимметрично, диспропорционально большие в сравнении с другими российскими университетами. Потому что весь университет был выстроен вокруг интеграции в глобальное образовательное пространство. А — вы меня извините — глобальное образовательное пространство — это в основном западное образовательное пространство, по крайней мере, в социальных науках, хотим мы этого или нет.
Для меня важен вопрос: почему я должна гнуться перед властью? На каком основании? Я думаю, что я не глупа, я хорошо делаю свою работу, я столько книжек прочитала, я много знаю. Так зачем мне это?
— Означает ли наш разговор, что в России социальных наук больше не будет, потому что от них остается только тезис о том, что начальник всегда прав?
— Я боюсь, что да. От них мало что останется. Я не знаю ни одного примера страны: ни большой, ни маленькой, ни средней, которая при международной изоляции сумела бы выстроить конкурентные социальные науки. Таких примеров нет. Можно было бы привести в пример Советский Союз, когда благодаря чудовищным государственным вливаниям, за счет всего остального вы делаете науку по направлениям ВПК и космоса. Это очень селективно, это такие пузыри, которые вы себе надуваете. При этом у вас социальная наука фактически отсутствует. Она просто превратилась в набор штампов из научного коммунизма.
Я думаю, что очень скоро появится большое количество российских журналов по социальным наукам, ведь теперь надо публиковаться по-русски, а российских журналов, например в моей области, мало. Появится большое количество плохих журналов. Потому что сделать хороший научный журнал — это очень долго и сложно, это нельзя сделать посредством кавалерийских атак и разного рода указаний. Я член нескольких редакционных советов, я часто пишу рецензии, поэтому немного знаю об этом.
Вот сейчас наоткрываются такие журналы, как грибы. Сделать их хорошими — много и быстро — не получится. А поскольку стимулов публиковаться в англоязычных журналах больше нет, то все туда ринутся. Ну не все, останутся единицы, которые будут все равно писать по-английски, но именно единицы.
В новые журналы пойдут аспиранты, у них просто не будет другого выхода.
Процесс «слепого» рецензирования, видимо, загнется. Ну и, значит, о качестве исследований, представленных в статьях, говорить не приходится.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
— Слушайте, опять же, наши так называемые патриоты что говорят? Что самое главное — это ценности. Вот эти все peer review, журналы — это все хорошо, но главное, что есть в современном социальном знании, — одна сплошная антироссийская пропаганда и отрицание нашего величия, критика наших мудрых решений. А мы, на самом деле, любим нашего президента, и вокруг этого ядра и строится наша российская современная наука. Разве они не правы?
— Сейчас вот я скажу «конечно, они правы», а вы удивитесь.
Нет, давайте все-таки будем отделять. Понимаете, я не знаю такую ценность, которая называется «любовь к президенту». Любовь — это чувство. Можно его испытывать, наверное, к президенту как к человеку, почему нет? Я никогда не испытывала, поэтому мне сложно сказать, нет своего опыта. Ценностью для меня может быть не любовь к президенту, а, например, президентская система как таковая, если я считаю ее лучше парламентской.
Слово «ценности» в России фактически приватизируется: у нас есть, а у них нет. Между тем западный дискурс весь пронизан ценностями. Говорить о том, что там нет ценностей, — это просто смешно. Просто они, во-первых, другие и, во-вторых, по-другому понимаются, и, в-третьих, их ценности допускают разнообразие дискурсов, а наши ценности — нет. И меня это смущает. Меня смущает в подписи ректора Анисимова, что мне кто-то говорит, как надо думать. Я сразу спрашиваю: «А почему? А зачем? А объясните, я опять не поняла». И вызываю у таких людей законное раздражение, потому что они не любят ничего объяснять. Они считают, что есть какой-то незыблемый консенсус вокруг не пойми чего. С моей точки зрения, это, помимо прочего, не разумно.
Я никогда не понимала российскую власть, когда она со страшной силой молотила этими «ценностями» по гражданскому обществу, по оппозиции. Это странная и неверная линия — стараться полностью искоренить инакомыслие.
То же самое с этой «спецоперацией»: какая-то страшная преувеличенная реакция. Вас еще не ударили, а вы уже идете (…), исходя из того, что у кого-то были какие-то враждебные мысли.
Это попытки предотвратить даже то, чего нет. Наносишь колоссальной силы удары, громя все, не понимая, что более гибкие реакции принесли бы гораздо больше в смысле политического выживания и дальнейших перспектив.
А построить патриотические социальные науки невозможно. Можно создать новую веру, новый культ. Но это все не может называться «наукой» просто потому, что не предполагает процесса познания. Там нечего познавать.
— Есть тенденция к тому, что никаких социальных наук нашему государству, на самом деле, не нужно. Мы несколько дней назад опубликовали в «Новой» комментарий к тому, что в педагогических вузах сокращаются гуманитарные дисциплины. Кажется, что процесс запущен, и мы будем страной без социальных наук.
— Да! Но мы будем страной без много чего. С некоторой точки зрения это вообще безумно интересно: а вот без чего можно жить? Ведь в СССР тоже был эксперимент, без чего можно жить, но тогда мы не знали, что это существует. А теперь знаем.
Но интересно: жизнь без социальной науки, без конкурентной науки и вообще, по-видимому, без конкуренции… а на чем это все держаться будет?
Эта система, она же должна себя содержать и поддерживать в условиях враждебного внешнего окружения. Как это будет происходить?
Когда мы думаем о том, какая будет наука, какая будет педагогика, какие будут журналы, у меня возникает вопрос: а это все будет? Оно будет? Потому что нужен же какой-то фундамент, чтобы оно все жило.
— Ну, можно имитацию делать, потому что, я думаю, большинство людей не очень понимают, в чем отличие научного журнала от имитации научного журнала.
— Я не про это говорю. Мы с вами исходим из того, что система сохранится. А у меня, вообще-то, есть на этот счет большие сомнения. И тогда мне интересно, в какой среде я буду существовать. Где будут существовать эти псевдожурналы и псевдоуниверситеты.
— Как вам кажется, что российские преподаватели, которые в нашей ситуации оказались, могут делать сейчас?
— Боюсь, что хороших опций у них нет. Ну так получилось. Их просто нет. Я большой оптимист, я хотела бы, чтобы они были, потому что для меня это не просто преподаватели. Я думаю про них как про своих друзей. Но нет опций таких, которые не содержали бы потери, и потери большие.
Если эти преподаватели отсюда уезжают (куда бы они ни уезжали) — это потери одного рода: это разрывы с частью семьи, это потери финансовые и так далее. Нам понятно, что в охоте за интеллектуальными и преподавательскими головами мы стоим далеко позади украинцев. Лично у меня никаких претензий нет. Наши мелкие проблемы ничего не стоят по сравнению с тем, что там происходит. Когда мне говорят «ах, я страдаю», «я впервые узнал, где у меня сердце», я не сентиментальна — я над этим не могу плакать.
А есть потери другого рода. Это потери принятия на себя обузы этой невыносимой лояльности. Это будет именно невыносимая лояльность.
И соображения о том, что мы пересидим. Наверное, кто-то пересидит. Но какой ценой?
— Я пытался сделать журналистское исследование про состояние политологии. Про то, как одна часть политологии превращается в открытую пропаганду, а другая часть — как правило, англоязычная — все еще ориентирована на интеграцию в международную науку. Я себе легко представляю, как вторая часть пропадает (она и так не очень объемна, хотя и значима) и остаются те самые политологи в гостях у Владимира Соловьева. Они возглавляют кафедры, и они то же самое, что говорят на российском ТВ, публикуют в журналах и рассказывают студентам. Я даже с некоторым восторгом смотрю на молодых ребят, которые начали в этом ключе делать карьеры в последние годы после Крыма, среди них есть очень удивительные молодые политологи.
— Я, наверное, даже знаю их. Некоторые из этих молодых дарований учились у меня, и мне очень страшно, потому что это даже педагогической неудачей не назовешь, это много хуже.
А про две политологии… Если мы считаем, что политология — это наука, у которой есть гипотезы, теории; которая умеет гипотезы верифицировать; которая собирает данные и с ними работает, то вторая часть — это не политология. Иными словами, есть не две части политологии, а политология и неполитология. Это важное различение.
— Как вы думаете, когда вас уволят из ВШЭ?
— Стало быть, вы думаете, что меня уволят… А как? Вот они, например, с Дмитрием Дубровским не продлили контракт, он в одном департаменте со мной работал, а как они со мной это сделают? Нескромно, но я была ценностью, пока не случилась эта «спецоперация». Я полный профессор и по должности, и по званию, у меня хорошие публикации, я популярный преподаватель. И теперь объясните мне, вот как они меня уволят? Вот как бы вы меня уволили?

Здание ВШЭ в Санкт-Петербурге. Фото: Яндекс.Карты
— В связи с реорганизацией. Я бы пошел по этой линии.
— А у меня есть трудовой договор, в котором написано, что на время контракта они обязаны обеспечить меня чтением курсов.
— Мне кажется, в вашей деятельности теперь еще больше практико-ориентированности, которую они искали. В том плане, что вы теперь занимаетесь политикой.
— Нет-нет. Я никогда в жизни не занималась политикой.
— Но ведь когда вы академические свободы защищаете — это, по сути, политический процесс?
— Все — политический процесс, практически все. Вообще-то, я всегда изучала политику, я никогда не хотела ей заниматься. Меня никогда не влекло на трибуны. Защищая академические свободы, я защищаю себя и свою профессию. Значит, теперь это процесс политический.