Две квартиры
Это квартира в одном городе одной страны. Стены окрашены самостоятельно, на стенах развешаны слова на ином языке, самодельный камин из картона, здесь обитает кролик, у которого сложное имя — оно собрано из имен двух людей, которые спасали других людей. Кролика стригут. На кухне жарятся наггетсы, из холодильника достаются салаты. Только что был Новый год, и в углу полыхает елка, купленная на распродаже. Вещей немного, хозяева живут здесь недавно. Хозяева — беженцы.
Вот другая квартира в том же городе той же страны. Она на низком этаже, здесь очень широкие дверные проемы. В квартире отсутствуют запахи, воздух стерилен и пуст — и эта стерильность достигается большими усилиями. Три маленьких комнаты заставлены вещами, осторожно ходит кот (кот не укладывается в стерильность, про кота были споры). Поворот, еще поворот, и вот она — инвалидная коляска. И понимаешь и про широкие проемы, и про стерильность, и про полки, на которых лежит белое (памперсы, перевязочные материалы).
В этих квартирах живут Лапуновы.
Мы знаем Максима Лапунова — единственного заявителя по делу о расправе над чеченскими геями. Максим приехал в Чечню, чтобы работать, и попал под волну уничтожения людьми людей. Его заключили в секретную тюрьму и пытали. Он спасся — чуть позже я расскажу, как и почему, затем он спас и вывез свою семью из страны. Затем он вернулся — и подал заявление о преступлении. Моя страна отказала ему в защите — и он стал беженцем.
Я ему бесконечно благодарна за этот шанс — шанс, который он дал России расследовать преступление против человечности, шанс, которым Россия не воспользовалась, а могла.
Но почему у него появились силы это сделать? Почему он решил вернуться и попробовать разрушить систему уничтожения людей?
Ответ я получила в этих двух квартирах.
«Мне мое солнце светит»

Максим родился в сибирской деревне. Я исключаю географические названия из этой истории — по понятным причинам. Он был вторым ребенком в семье. Всего детей было шестеро — пятеро сыновей, одна девочка. Это были 90-е. Мама Максима работала на лесопилке сторожем, отец вернулся с зоны лежачим инвалидом. Жили тяжело. Дети кормились, вскапывая чужие огороды, мама, Надежда Владимировна, и дочка Маша уходили в тайгу «шишковать» — добывать кедровые шишки на продажу, собирали ягоды и грибы. Когда становилось совсем тяжело, детей клали в больницу, чтоб они «откормились». Сейчас в это сложно поверить — но я верю. Моя семья жила тогда ненамного лучше, хоть мы и жили в городе.
23 марта 2001 года Максим и его брат Сергей лежали в больнице, ждали Андрея — младшего брата. Чтобы госпитализация детей из одной семьи не выглядела нарочито, врачи старались класть детей в разное время. Ночью начался шум. Тихие разговоры. Потом к Максиму подошла подруга семьи — она работала в морге при больнице. Сказала Максиму: «Сергея вашего убили».
«Как убили? Вот же он стоит!» — «А, ну значит не Сергея, а Андрея».
— Я ж не поверил, пошел, — говорит Максим. — Я сбежал с больницы… Сначала домой, убедился, что произошло. Побежал в морг, как раз зашел, когда зашивали брата.
Кто был убийца? Местный призывник, вернулся из армии, где повредился в рассудке. Голоса сказали ему убить женщину, мужчину и ребенка. И он убил Андрея.
Андрею было семь, он уже ходил в школу. У него была «бизнес-жилка», он лучше всех продавал ягоды. Ему перерезали горло.
Мама, Надежда Владимировна, говорит:
— И вот меня вызвали в прокуратуру, я знакомилась со всеми документами. И когда шла обратно, встретила родителей [убийцы]. И мне мать плачет и говорит: я бы хотела посмотреть ребенка, за кого просить прощения у Бога. Я ничего не сказала. Все заботы про похороны легли на плечи старшего сына, Саши. Я пришла домой, говорю: Саша, вот так и так. И он говорит: вот если разобраться, какая мать хочет, чтобы ребенок или погиб, или стал убийцей? И ты не хочешь, и она не хотела. Он пошел туда, пригласил их на поминки. И они пришли. Кто в доме был, у всех глаза: ничего себе, прийти домой, да? Даже на улице стояли, ждали, чем это все кончится. Я увидела, поздоровалась. Говорю: я буду молиться. Я сказала: Господи, вот у гроба сына — ты мне свидетель. Никогда, ни при каких условиях, нигде я не буду перекладывать вину за случившееся ни на родителей, ни на ребенка. Как ты рассудишь, так каждому из нас и будет. Никакой вины, никаких проклятий, ни заклятий, ни воскладывать, ни требовать, ничего.
Вот уже 18 лет, как Андрея нет. Все вот эти годы у меня не было заботы, как они там, как их бог наказал, и наказал ли, и почему не наказал. Мне мое солнце светит, мне! И от того, что у них происходит, у меня свет солнца не затмился.
Убийство Андрея пошатнуло семью, но страшнее всего оно сказалось на брате Константине. У него началась эпилепсия.
Приступы учащались, лечения подобрать не удалось. И через двенадцать лет он повесился — в двух шагах от матери, которая спала в сенях.
«Мне слава богу, что вы живы»

Настоящее горе не пережить. Оно навсегда с тобой.
Оно зияет внутри провалом, выжигает дыру вокруг себя, которая — нет, не исчезнет. К ней привыкаешь, выстраиваешь жизнь вокруг нее.
Горе учит разному.
Лапуновых оно научило беречь друг друга.
Лишившись двух детей, семья сдвинулась и стала совсем единой.
Это единство стало неразрушимым, цементным.
Его не разбило ничего. Ни Кадыров, ни преследования, ни беженство.
И когда Максим сделал каминг-аут, рассказал о том, что он гей, — ничего не изменилось.
Надежда Владимировна формулирует:
— Я и так потеряла двоих сыновей, у меня не так много детей, чтобы расшвыриваться. Это ваша жизнь, это ваша жизнь, вы сами себе правы, вы сами себе умные, вы сами себе все. Мне слава богу, что вы живы.
Последнему сказали брату Сергею. Сергей впитал в себя уголовную культуру тех мест, где «опущенный», «пидор» — главные ругательства. Максим говорит: «Сергею Маша меня сдала».
Сергей рассказывает: «Маша: «Иди, Максим тебе чего-то хочет сказать». — «Максим, чего?» — Она: «Говори, иначе сама скажу».
— Пришлось по-братски каяться, рассказывать, — говорит Максим. — Мы взяли водки, поговорили по душам… А он мне возьми и скажи: «А почему ты мне раньше не сказал? Почему я узнаю все самым последним?»
— Если бы ты раньше сказал, наверное, я бы не общался. Какое-то время. Потому что полжизни дружил с такими людьми, которые учили меня тому, что это не есть хорошо.
— Ну и плюс к тому же мы были воспитаны с таким религиозным уклоном немножко… или множко.
— Чего — напились. Ну и сказал ему, как бы мне хотелось по роже зарядить. Ну, думаю, как-то поздновато уже.
— В общем, мы часов семь разговаривали.
— Конечно, стремно было. А потом уже понял, что бессмысленно что-то ждать и доказывать, и переубеждать. А потерять еще одного брата совсем не хочется. Двоих уже как бы потеряли. Не хочется как-то…
Маша говорит: «Я, конечно, очень долго плакала».
Убежище
Церковь играла гигантскую роль в жизни Лапуновых. Не просто место, где можно молиться, не просто место, где детям отдают старые вещи, а центр их жизни. Эта церковь была баптистской. Другой церкви не было в их деревне.
Церковь помогла Лапуновым пережить потерю двух сыновей.
В церкви Максим познакомился с Богданом (имя изменено — Ред.). Максим руководил церковным хором, а Богдан приехал в церковь с друзьями — готовились к свадьбе.
Максим и Богдан вместе 13 лет.
Их отношения — самые счастливые отношения в семье Лапуновых.
Вместе с Богданом Максим спасал Машу, которая попала в водоворот домашнего насилия.
Маша говорит:
— Я жила с отцом моего сына, и тоже так, не очень-то, постоянно избивал. Он не давал никому ни звонить, ничего… И вот он в очередной раз пришел, напился, избил. И пока он спал, я втихаря позвонила Максиму, сказала: если ты не заберешь меня, он меня убьет. И мама сразу приехала, и еще неделя прошла, и все, я больше не смогла [терпеть]. Я поехала в район делать документы на малого. И зашла к знакомым. Мы выпили пива. И он мне позвонил, сказал: если я от тебя хоть малейший запах перегара учую, я тебя на автовокзале встречу, куда-нибудь в лес завезу, а твоим скажу, что ты не приехала. А я понимала, чем это. Потому что…
— Ну он псих, — говорит Максим.
— Он не шутил с этим. Увозил меня в лес, не раз увозил. И я позвонила Максиму, говорю: я просто-напросто боюсь ехать домой.
И вот Максим приехал, где мы снимали. Отправил этого, чтобы он за мной съездил, но по дороге он мне ни слова, ни полслова, ни криков, ничего не было. Приехали, и Максим такой: в общем, тебе до утра время, ты решаешь, либо ты уходишь, либо ты остаешься, но если остаешься — имей в виду, я в твою жизнь больше лезть не буду. И я сразу сказала: можешь утром приезжать, я до утра соберу вещи.
— Когда он ее избивал, она к нему возвращалась каждый раз, — говорит Максим. — Поэтому я поставил ее перед выбором: если любовь — то любовь, тогда терпи и не жалуйся. Ну жалуйся, конечно, в критических ситуациях, да? А как бы постарайтесь свои бытовые проблемы решать сами. Ну и поставил перед выбором, и все, наконец-то мы от него ушли.
— Получилось так, что практически сбежала я от него. Он долгое время мне названивал, он знал, где Максим живет. Мы прятались у Богдана. Он меня там караулил на машине, мы даже из дома не выходили, потому что боялись. Всегда кто-то из ребят со мной и с детьми оставался.
Семья Максима и Богдана стала для Маши и ее детей убежищем. И примером. Больше она никому и никогда не позволила ударить себя.

Праздник.95
Наверное, нет ничего удивительного в том, что Максим выбрал праздники как свою специальность. Частная битва против мрака и боли, которых в его жизни было достаточно.
Он говорит: «Это очень хорошая творческая работа, во-вторых, это хорошая ниша для заработка… И эмоционально мне самому нравится дарить людям праздник, какой-то уют и тепло. Вдохновляло. Людям эмоции, и у тебя всегда куча эмоций, и ты всегда в движении, в поисках нового, привнести в чью-то жизнь, в чьи-то события».
Максим сходил в армию, выучился на конферансье и устроился на всероссийскую ярмарку меда сначала аниматором, потом — ведущим.
— Как зазывалой таким, на празднике: озвучивал рекламу, зазывал людей. И с ярмаркой мы начали путешествовать по России. Все сибирские города — Омск, Бийск, Томск, Тюмень, Иркутск, Ачинск, Ангарск, Анжеро-Судженск, даже такой город был. Очень много ездил. Я, наверное, около пяти лет провел ведущим на ярмарках.
Вот так меня занесло и в Чечню. Я даже не знал, что я туда еду. Я б, наверное, в жизни не поехал. Уже когда я прочел вывеску «Грозный»… И тут со мной случился большой и дикий стресс. Но стресс в хорошем плане. Я ожидал увидеть развалины, но увидел прям потрясающий город, в который я тут же влюбился. Мы приехали, скинули вещи, покушали и понеслись — мы просто не могли удержаться — осматривать весь город. Съездили в горы, невозможно: никто никогда гор не видел, а тут — раз! — и такое. Ярмарка закончилась, и я остался. Проводил мероприятия: в военных частях в 46-й бригаде, в реабилитационном центре для детей-инвалидов, дэцэпэшников, блаженных, как они их называют. Нашел видеоролик, как делать из шариков цветы, и начал сначала цветы, потом фигуры, потом что-то еще. И очень быстро развился в аэродизайне. Я торговал и на рынках, и на улицах, везде продавал эти шарики.
Максим показывает инстаграм — prazdnik.95_shariki: волшебные мотоциклы, розовые замки, логотип местного телеканала, аисты, младенцы, мультяшные герои ростом с человека, спящие ангелы.
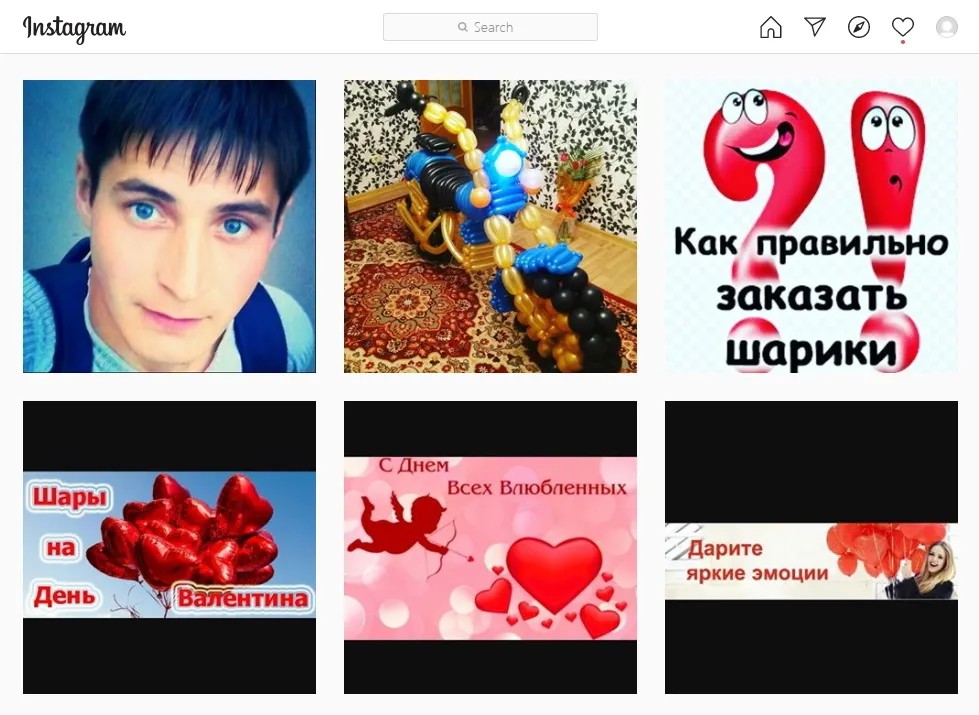
Он хотел заработать на квартиру и перевезти в Грозный всю семью.
— Очень гладко все шло, ровно и как-то вот ну очень прекрасно, слишком прекрасно. Там русских более-менее уважают, ну, как уважают, правильное слово подобрать — к ним относятся по-особому. Местные — они свои, у них разборки какие-то, но русских никогда не ввязывают в это. А если что-то тебе надо, тебе всегда… Ты идешь, к тебе просто подходят: «Эй, чувак, давай помогу донести, чего там. Ты только скажи, чего тебе надо, зайди ко мне домой покушай». Если ты идешь — и какие-то праздники, тебя в любой дом чуть не заволокут, лишь бы ты там был гостем, чтобы ты перекусил. У меня появилось там очень много друзей, и я нанимал работников, тоже молодых ребят. Обучал их. В гости друг другу очень часто ездили. Там есть что посмотреть, есть чему поудивляться. Ну это все до поры до времени. За большой витриной скрывается очень много плохого, о котором я даже не знал.
— Когда ты начал чувствовать, что в этой картинке что-то не так?
— Когда выволокли из моего подъезда друга, который пришел ко мне погостить.
Его просто посадили в машину, он кричал, орал, а я с 9-го этажа не услышал… Я слышал крики, но не понимал, что это он.
— (продолжает) И мне звонит коллега с ярмарки меда и говорит: «Это ты был? Там русский парень орал». Я говорю: «Да нет, я дома». — «Ну ага, Эльбек, значит». Я ноги в руки, выбежал на улицу, давай писать заявление в полицию, звонить. Кое-как добился, чтобы просто приехал участковый. А мне говорили люди, что, наверное, он чего-то натворил, вот его и забрали.
Солнечный день

Маша уже болела. Диагноза еще не было, но обследования и поддерживающие лекарства требовали много денег, на врачей зарабатывал Максим.
— Поэтому я выходил в Грозном на площадки открытые и торговал шариками, где только можно было. Чтоб хоть сколько-то денег собрать, наторговать.
С того момента, как выволокли его друга из подъезда, прошла неделя.
— Я не выходил на работу в связи с поисками Эльбека около недели. Потом Эльбек нашелся уже, он сутки примерно дома был, я уже выдохнул спокойно. Знакомые предупредили меня, что я не должен иметь с ним никаких контактов. Я не понимал, что происходит, думал: пойду лучше поработаю. Я жил буквально в двух шагах от гранд-парка. И буквально только вышел, расставил товар, надул кучу шаров.
И подходит просто ко мне мужчина. Магомед. И как будто бы меня знает. «О, Макс, привет, как дела, все нормально?» Просто берет меня под руку и волочет. И тут же подбегает другой, хватает за вторую руку, и они поволокли меня в сторону заборчика. И там стоит машина, и я вижу, что из машины выходят двое, спрашиваю, а кто вы такие? Они — «полиция». Я говорю: предъявите мне документы, покажите, кто вы. И я чувствую, что не могу уже вырваться от них. И тут заборчик перепрыгивает еще один мужик, бежит ко мне. И я уже начал кричать «спасите, помогите». Ну, естественно, люди сразу собрались, меня достаточно много людей знало. Очень много мужиков подбежали. Женщины, которые тоже торговки. Кричали во все гланды: «Что происходит? Отпустите!» И много народу пыталось меня вырвать. Меня над этим заборчиком чуть ли не пилили: одни меня тянут в одну сторону, другие — в другую. Раз — меня резко запихали в машину. Закрыты все двери изнутри были, они сразу с двух сторон сели. Хотели тронуться. А там еще дежурят по городу, через каждые полкилометра, охранники с автоматами, дежурные. И сразу несколько подбежали, начали по-чеченски выяснять, почему меня забирают. Они записали у меня паспортные данные, записали этого Магомеда данные, и мы буквально тут же отправились. Я все спрашивал, что происходит, достал телефон, но у меня тут же его забрали. Говорят: мы тебя забираем по подозрению в убийстве, ха-ха. Я говорю: да я не убивал никого. Один сказал: вот если такого не было, я на коленях у тебя просить прощения буду. Ну стебом типа.
Заехали на территорию [УУР — управления уголовного розыска]. Высадили с машины, капюшон мне натянули на голову, повели на самый верх, к главному. Пухленький, сбитенький такой, с недлинной бородой светло-рыжей. В тюбетейке национальной, похож на местного муллу, с четками. И он уже стоял с моим телефоном, перерывал все мои эсэмэски. С кем я общаюсь, что там. Ну и, конечно, нашел эсэмэски компрометирующие.
Он сказал, чтобы выбивали с меня все. Меня увели в другую комнату. Они приволокли и аппарат этот телефонный, которым током бьют, и дубинки, и пластиковые трубы. Наручники положили, пистолет положили, сказали: тебе хана, парень.
Они хотели, чтобы я еще рассказал о других геях. Чеченцы их интересовали. Все геи-чеченцы, все, кого я знаю.
У меня было несколько контактов. И в телефоне они были подписаны под определенной сноской. Не ЛГБТ, не гей: по-моему, там ХО было написано. И один додумался — этот же Мага, который больше всего пытался сделать вид, что он хороший такой парень. И он вбил «ХО», и у меня целый список высветился. Основная часть не из Чечни, а с России. Но было три контакта, которые они могли найти. Три парня, с которыми мы дружили. Их номера были левые, с измененными цифрами, не знаешь — не свяжешься.
А один парень — у меня с ним был какое-то время роман. Я не горжусь, что изменял Богдану, но это было. Он менял номера буквально каждую неделю. До него было не достучаться, он сам выходил на связь. Я был уверен железно, что он сменил номера. И я их дал, на свою беду. И получилось, что я его подставил.
В моем телефоне было три его номера. Мы позвонили по одному, он выключен, по другому — выключен, не работает. А по третьему он взял трубку. Я сидел уже под дулом пистолета и говорил, что вот сейчас я к тебе приеду, выйди, пожалуйста. И его тоже повязали, увезли вместе со мной. В то же отделение, но уже нас в подвал повели. Уже с мешками на голове.
Я уверен, что он не мог этого простить. Мы потом еще несколько раз пересекались с ним в этом подвале. Когда нас вместе допрашивали. Когда с еще одним парнем, с Кобышевым Андреем, нас отправили мыть цементный пол, чтобы пыль не поднималась. Мы заливали пол водой, и вот я его тогда видел. И еще раз, когда уже зашли ко мне в камеру забрать мою обувь, чтобы отдать ему — он был без обуви, как меня в тапках вышел встречать, так его и взяли. Его, слава богу, забрали родители и увезли, спрятали. Я думаю, за выкуп. Просто так не выпускали.
— Ты думаешь, что он выжил?
— Да, я знаю. Следствие показало, что выжил. И что с ним все в порядке.
Подвал
— Меня поставили в одну комнату, его — в другую, и его сразу начали избивать. Пластиковыми трубами. Они не ломаются. Они тонкие, они оставляют очень сильные синяки, отбивают очень жестко. Упругие, прочные, и ими уж как дал, так дал. Я на себе их прочувствовал. Каждый удар до костей пробивает.
Меня отвернули в угол. Я не должен был это видеть, но та камера от моей просматривались, и я видел, как его уничтожали.
Долго. Его избивали больше получаса точно. Давали передышки, требовали, чтобы он еще кого-то сдавал. Большая часть разговора была на чеченском, я понимал отдельные слова. Ругались по-русски — «собака, тварь, конченый», что он сейчас умрет. Давали передохнуть, отбивали ноги, отбивали стопы, спину. Он сидел на полу, в штанишках, в рубашке.
Он был синий с головы до ног. Гематомы аж полопавшиеся были, с кровоподтеками.
Все прекрасно помню. Я не мог с места сдвинуться… Я видел драки какие-то в жизни. Но избиение человека я ни разу не видел. Я сделать ничего не мог. И еще я в этом виноват.

Это для меня была вина реально дикая. И шок, что это происходит, что это не могло быть вообще ни в коем случае, не должно было быть, невозможно.
Мага — он там типа капитан был или майор. Он якобы дал команду меня не трогать, потому что я русский — не дай бог, чего-то. «Пока не слышно и не видно, сиди тихо». Но, видимо, одна из смен просто не передала другой. И вот эти двое начали измываться.
Тоже с палками этими пластиковыми. Меня поставили лицом к стене… С ними сопротивляться было просто бесполезно. Физически это невозможно определить, сколько били. Я думаю, что долго. Полчаса, может, полтора часа. Избили, потом ругались, пинали в бок, в спину, в ноги. Один устал, взмок, он потный вообще весь вышел. Меня уже трясло, я на ногах стоять не мог, они менялись, опять меня поднимали, опять избивали, потом опять менялись, потом уходили отдышаться, снова избивали. Потом уже завели парня этого ко мне в камеру. Начали устраивать очную ставку, кто из нас кто был. Кто из нас кому первый написал, все эти интимные подробности, вот эту гадость всю поднимать начали. Я ему говорил: не слушай, даже не думай, тебе от этого хуже будет, тебя снова изобьют. Опять по роже получал, опять палками меня избивали. Они ему говорят: «Если мужик — бей его по роже», и я тоже сказал: «Бей». И он ударил.
Другие смены приходили. Каждая смена приходила посмотреть обезьянку. Вот привезли, вот он какой. По лицу били — с ладошки, не кулаком. Чтоб синяков не было. Под одеждой везде были синяки.
Там люди искалеченные были. Избитые до того, что просто один большой синяк от человека ходил. Вот этот Андрей Кобышев. Он был в тельняшке, тельняшка с широким разрезом, морская. Он довольно пухленький, и на спину она сползала, когда мы пол мыли. И у него живот был в синяках, и гематомы: они не синие, они зелено-сине-багровые, с опухшей кожей.
Мне повезло. Тапик принесли.. ну вот телефоны называют тапиками. И его принесли уже через день после моего избиения. Остальных уже им пытали.
Ток — это жутко. Привезли чеченца. Он визжал, как будто свинью режут. Визги, потом они прерывались резко, видимо, он падал. Снова ор, крик, мольба о пощаде. И это тоже было не пять минут.
Это по полночи могло продолжаться. Это такие твари. Там столько злобы, столько ненависти…
— Подумывал, чтоб их найти, — говорит брат Максима Сергей.
— Я считаю, что я по-божески отделался по сравнению с остальными. Мне-то чуть-чуть досталось. Думаю, что эти же люди двадцать лет назад воевали, убивали, для них нет проблемы. Подо мной была огромная лужа крови. Маленькая камера, мне дали картонку большую, хватало почти на весь рост. И под картонкой просто была гигантская лужа крови.
Когда я туда пришел, кровь была свежая.
«Боевики»
— Двоих парней убили. Как раз через сутки после моего освобождения. Они мне помогали, обо всем рассказывали. Как кого зовут, как себя вести. Потому что они прошли через все то же. И еще хуже.
Шамиль и Аюб. Их взяли за то, что якобы они, на данный момент уже 8 лет назад, убили полицейского и сбежали. Они говорили, что их подставили. По их словам, их подставил тот же, кто в этом отделении работал. Тоже полицейский.
Они очень сильно мне помогали. Я знаю, почему. Потому что я должен был, если вдруг мне удастся освободиться, сообщить родным, где они и какого надо им адвоката, чтобы помог.
Они понимали. Они мне сразу говорили, что их готовят как боевиков. Я-то вообще не дотумкивал, о чем идет речь. Какие еще боевики? Они всегда были пристегнуты к трубе такой толстой, они не могли друг для друга дотянуться. Если выпускали в туалет, то по одному, им разрешали намаз прочитать, помыться-подмыться, ведро воды набрать себе. Аюб частенько рыдал ночами.
Иногда нас выводили поиграть в карты — там была пара смен хороших, ну как хороших? Пацаны всегда выпрашивали: ну выпусти, будь человеком, по-братски, дай поиграть. И вот мы рубились в карты, и в это время тихо разговаривали, как друг другу можем помочь. У нас там целый «план Барбаросса» был. Мы долго обсуждали, не одну ночь, а последние 4– 5 суток. Когда выяснили, что у нас есть общий знакомый, у этих аж глаза заискрились, что для них есть шанс.
Хорошие смены подкармливали иногда, не две сосиски на сутки дадут, а три-четыре. Полбулки хлеба. А буквально в предпоследнюю ночь один принес две курицы огромные — а уже никого не осталось в подвале, практически всех увезли куда-то. И мы были вчетвером. И вот принесли курицу копченую, небольшую, правда. Ее нам хватило буквально несколько раз куснуть всем. Мы ее с таким наслаждением ели! Я чуть не сдох от счастья, какая она была вкусная. И дали еще бутылку лимонада. Стаканчики тоже дали. Это было круто. И даже вот луковички, которые были в этой курице, мы даже все луковички съели. Даже бумагу потом вылизали.
Один раз не было ни у кого курить, и охранники были некурящие все. А курить всем хотелось. Уши пухли. Дико. И Шамиль по-чеченски лялякал-лялякал, «щас будут сигареты, щас его в тыщу обыграю, и у нас будут сигареты». И этот некурящий охранник куда-то сбегал, у кого-то настрелял сигарет, четыре сигареты, четыре у Шамиля и типа на кону. Сначала тот охранник почти все сигареты выиграл, у Шамиля осталась одна. И мы такие: «Блин, Шамиль, лучше сразу сдавайся, хоть одну на троих покурим». А этот такой: «Нет, щас все будет, я просто поддавался». Выиграл все сигареты, и охранник злой был, он отхерачил Шамиля палкой. Типа это было ради смеха, но это нифига не ради смеха. Он больно его фигачил. Но ради сигарет Шамиль выдержал. И мы все накурились вдоволь. Мы прям тогда дымили, цедили эту сигарету, каждый покурил.
Я каждую ночь мечтал, я не мог спать, я реально не мог спать. Я засыпал, хорошо если под утро, а мог еще через сутки, пока не вырублюсь окончательно. Я фантазировал, как я могу их убить, прибить. Какие бы у меня способности были, как бы я мог себя защитить, а что бы я сделал, если бы по-другому все могло произойти.
Всевозможные варианты. Как я бы мог их наказать, как отомстить. Что угодно! Я не мог спокойно спать. Меня дико трясло, меня выворачивало.
Нам не говорили ни время, ни какой день, ничего не говорили.
И Шамиль, и Аюб говорили: возможно, что ты не выберешься отсюда. Возможно-возможно. И я уже смирился, я уже и молился, и плакал. И все охранники говорят: ты не выйдешь отсюда. Все, ты тут. Тебя никто не знает, никто не слышал, никто не видел, все, тебе хана.
А потом Шамиль говорит: я слышал, тебя кто-то ищет. И у меня такая надежда появилась, я готов был обоссаться от счастья. Я ликовал. Я еще не знал, кто точно. Думал, кто-то из чеченских приятелей. Может быть, они, может быть, еще кто-то, может быть, и семья. Я аж разревелся в камере. Думаю: наконец-то все будет все хорошо. Ну и потом еще через сутки они пришли, спросили: «Когда говорил последний раз с семьей? Где тебя последний раз видели, как часто вы созванивались?» Я дурачка включал: «Ой, да полгода назад».
Потом меня из подвала повезли вещи забирать в мою квартиру, а когда хозяин узнал, что меня уволокли, быстро сменил замки. И только на следующие сутки они договорились и смогли попасть, забрать вещи. И от Шамиля с Аюбом узнал, что, пока меня не было, эти разговаривали между собой. Что заявления поступили, что меня ищут, что я в розыске, и паника большая поднялась, и что со мной делать, они не знают. И ребята говорят: парень, берегись вообще, очень аккуратно. Ни с кем не разговаривай, ни с кем не скалься, вообще лучше ничего не говори. Ну я сидел, как мышь, там.
Взяли с меня отпечатки пальцев. Дали пистолет в руки — держи, потом пистолет от меня запаковали, видос с меня сняли, что я вот такой пидарас, я такая тварь, порчу чеченцев, и я больше так не буду. Все данные, где мои родственники живут — все это на видео было записано. Вот почему было страшно сразу ехать домой. Потому что я знал, где они меня будут искать. Вся подноготная у них была. Куда я поеду — все мои пути им были известны.Меня довезли до вокзала, выдали денег на билет. Пригрозили. А я спрятался и пошел встречаться с родными Шамиля и Аюба. Нашел маму с отцом. Передал им информацию, все, что знал, все, что мог рассказать.
У нас был условный сигнал, что им передадут сгущенное молоко, и они тогда поймут, что известие дошло.
А потом их убили.
Я долго не мог себе простить. Не мог себе простить. Потому что я сообщил, я раскрыл их локацию, о них узнали снаружи, и, видимо, те побоялись, что всплывет какая-то правда, и просто их ликвидировали. 28-го, утром, меня отпустили. А 30-го их расстреляли. И Кобышев погиб — я думаю, что он все-таки погиб, раз он до сих пор не найден.
Концерт в деревне
Почему Максима отпустили? Потому что русский. Потому что связь с семьей была крепкой. Его хватились сразу. Сразу написали заявление.
Надежда Владимировна говорит: «Было такое, что он уезжал куда-нибудь на работу, не было такого, чтобы терялся совсем. А у меня сестра, и у них там беда случилась: умер племянник. И они говорят: «Не может быть, чтобы Максим не приехал ни в больницу, ни на похороны. Такого просто так не могло быть. Объявляйте его в розыск».
Маша говорит.
Максима прятали всей деревней, буквально в подполах. В это время местная полиция обрывала телефоны родственников — требовали написать отказ от заявления о розыске. Требовали, чтоб Максим явился в участок. Региональная уполномоченная по правам человека настаивала на обязательной встрече с чеченской диаспорой — «они его не тронут». Чеченский оперуполномоченный присылал на WhatsApp образцы заявления, которое надо заполнить, что с Максимом «ничего не происходило».
Лапуновы давать гарантии молчания отказывались. Местные врачи только что обнаружили у Максима свежий рубец на сердце — во время пыток он пережил инфаркт, и сам не заметил, как.
И дальше они рассказывают то, во что невозможно поверить.
— Максим пообещал бабушкам в деревне, что проведет концерт на 9 Мая. И он, такой вот, вел концерт, — говорит Надежда Владимировна. — Пока он вел концерт, моей сестры дети, их четверо, по всем дорогам, которые из деревни уходили, везде караулили чужих. Кто на велосипедах, кто на мотороллере, кто на чем. Я ходила на концерт, сидела на лавочке — была координирующий центр.
Маша говорит: «А ночью я легла, и мне позвонили: если ты не скажешь, где он, подпалим твою избушку вместе с тобой и твоими детьми. А на следующее утро телефон перестал включаться. Я отвезла — у нас знакомый есть по ремонту сотовых — к нему. И он мне говорит: не знаю, куда ты попала, но тебе программку поставили, что ты не сможешь свои номера найти, и мы не сможем найти, кто тебе звонил. Ни эсэмэсок, ничего, чистая симка, как будто я ее только купила.
Я ребятишек из дома не выпускала. Дочке в школу надо было ездить в соседнюю деревню. Я очень боялась, что поедет и не приедет.
ЛГБТ-сеть нас вывезла в Москву. Первое время нас никто не трогал. А потом был момент, я уходила в магазин, а ребятишки одни оставались. И мне дочь рассказывает: постучались в дверь. Двое, начали между собой разговаривать: а ты точно знаешь, что здесь? Постучались, развернулись и ушли. С тех пор мы и в магазин перестали, нам привозили продукты. Если выходить — только с сопровождением».
В Москве Маше впервые поставили диагноз. Два вида рака: третьей и четвертой стадии.
Что сделала Россия
Семья спасла Максима. Максим спас свою семью.
ЛГБТ-сеть вывезла Лапуновых из страны. Затем Максим вернулся в Россию. Он вместе с юристами Комитета против пыток добивался возбуждения уголовного дела.
Максим стал первым и остается единственным заявителем о расправе над чеченскими геями.
Что сделала Россия?
В возбуждении уголовного дела было отказано. Отказывали пять раз. В госзащите для Максима — тоже.
Проверка, начатая месяц спустя после заявления Максима, установила: «обстоятельства не получили объективного подтверждения».
Но, несмотря на то, что оперативное сопровождение проверки осуществляли сами чеченские полицейские, подтвердилось многое. Следствие установило «секретную тюрьму» — подвал управления уголовного розыска МВД Чечни, фамилии силовиков, описанных Максимом, имена сокамерников. Нашли Шамиля Акаева и Аюба Ибрагимова. Их убили выстрелами в затылок, якобы во время нападения на чеченских полицейских.
Допрос Максима длился три дня и занял 27 страниц убористого текста. Максим проходил медэкспертизу и полиграф. С 21 сентября по 15 октября 2018 года Максим вместе с юристами Комитета против пыток находился в Ессентуках — там, где располагалось следственное управление, проводящее проверку. Максим был готов вернуться в Чечню вместе со следователем и лично показать, где его пытали. Следователь поехал сам, один. Он даже не зашел за железную дверь, за которой начиналась «секретная тюрьма». Зато приложил к уголовному делу техническую схему помещения, целиком совпадающую со схемой Максима.
Это ничего не изменило.
Максим уехал к семье.
Максим винит себя за то, что проверка ничего не нашла. Он говорит: «Если бы я догадался снять видео с датой сразу после освобождения, если бы я написал заявление сразу, если бы я…» Он вспоминает ножницы, которыми Шамиль и Аюб стригли ногти в камере («их надо было на экспертизу»), и куртку, в которой лежал на пропитанной кровью картонке (экспертиза не нашла ничего). Слушать это невыносимо.
Максим обратился в ЕСПЧ. 12 марта Россия должна была дать ответ на его заявление.
Но случился коронавирус.
— Почему это со мной произошло? Я всегда старался платить налоги, помогать людям, никому плохо не делал. Если надо кому-то помочь — старался помогать. Но оказался как раз в той ситуации, когда все пошло против меня.
Пусть я гей даже, да? Это ничего не говорит обо мне. Я никогда никому плохого не желал. Я оказался заложником ситуации, которая переломала всю жизнь.
У меня до сих пор бывают судороги ног, потому что после избиения это не прошло все так просто. Реально выкручивает, как будто выламывает их. И ноги, и руки, очень жестко. И после этого ты не можешь уснуть, ненавидишь все вокруг. И полбеды, что ты не можешь уснуть от фантазий дурацких о плане мести. А другое — когда ты не можешь с собой вообще совладать. Когда тебя трясет, стакан удержать не можешь, когда сердце заходится. Сковывает грудную клетку всю, и ты не можешь вдохнуть, ты мелкими глотками дышишь, потому что у тебя как будто бы сотни игл в область сердца. Я сидел минут по 5, по 7, по полчаса. Плакал, Богдан рядом всегда, меня отпаивал, отхаживал. Вызывали и скорую много раз — не мог вдохнуть.
Вдруг он улыбается.
— Я даже не знаю, жалеть об этом или не жалеть. Если б это не случилось, сестра бы моя давно умерла уже. А так она жива.
Битва Марии

Надежда Владимировна говорит: «Я в детстве в Узбекистане жила, 40 километров от Самарканда. В 70-е годы я в Эстонии жила. Ездила в гости в Воркуту, жили в Казахстане. Я себя прекрасно чувствовала везде. Но вот в такие годы и вот так вот начинать с нуля. В моем возрасте уже не прыгнешь. Я сама ничего не могу сделать. Я сама себя обеспечить не смогу ничем. Со своей кочки срываться было очень страшно. И была очень сильная тоска. И сознание того, что безвозвратно. Конечно, есть варианты, можно расплеваться со всеми и ломануться обратно. Но если мы шагнули, то надо уже как бы понимать свой шаг. Одно дело, когда люди уезжают по своей воле, они целенаправленно едут. А у нас была такая ситуация, как бы с корнем, с кровью выдрали, и надо было, чтобы сначала зажило. Было очень страшно выходить из миграционного центра. Ну, слава богу, что такая поддержка была — как ковер расстеленный был. Такая дорога, такие ворота. Не калитки, не двери, а ворота натурально открыты были. Было как-то страшновато принимать это все. Вот эту помощь, как-то не привыкли».
Маша говорит: «Привыкли как-то сами все. Своим трудом, своими руками. Ну не было такого, чтобы нам кто-то что-то давал. И были такие мысли: а не потребуют ли это обратно, и где нам это брать потом, чтобы вернуть. С очень огромной опаской принимали».
— А без этой помощи мы бы не выжили. Вот слова такие, ими даже не объяснишь ни внутреннее состояние, ни чувство благодарности.
В этой новой стране Лапуновы снимают две квартиры.
Это бюрократическая ловушка — семья, снимающая квартиру, должна иметь меньше дохода, чем прожиточный минимум, чтоб рассчитывать на помощь государства.
Мария, ее дети и Надежда Владимировна живут вместе. Максим, Богдан и Сергей живут в другом месте и работают круглыми сутками, чтобы свести баланс семьи к нулю.
Максим называет цифры их подсобных беженских заработков — и как из этих цифр получаются лекарства, памперсы и перевязочные материалы, школьные вещи для Веры, прививки и психологи для Платона, обезболивающие для женщин (одна умирает, вторая едва ходит). Они гордятся и рассказывают, как нашли на местном рынке дешевое мясо, как изобрели обезболивающую мазь на масляной основе и взяли в магазине рулон обоев цвета фуксии — остатки, но ими получилось оклеить две стены в комнате Марии, и оклеить полностью, без швов, а занавески нашлись на развале: и стоили два евро занавеска, и цвет подошел.
Я смотрю на них и думаю, что все мои знакомые беженцы прошли долгий период депрессии. Лапуновы — нет. Мария спасла их от этого. Забота о ней стала общим делом семьи — неотложным, важнейшим. Каждый день превращается в особенный. Каждый месяц может стать последним.
Рак безжалостен. Когда очень больно, мама не может обнять своих детей. Рак бесстыден. Есть много деталей. Братья моют свою сестру — и ей неловко и больно, но сама она уже не может мыться. Под одеждой спрятан пластиковый мешочек — не все функции организма удалось сохранить. Тело отказывается работать. Однажды Марии стало невозможно ходить — оказалось, что сломан тазобедренный сустав. Или рак, или облучение съели живую кость.
Ее время растянуто между госпитализациями. Однажды за 10 дней в госпитале Мария «проводила» четырех женщин из своей палаты. «Одна из них — даже к ней никто не хотел подходить, потому что был запах. Единственный Богдан подошел, и он успел за три минуты с ней поговорить, и через три минуты она умерла. Это страшно очень, когда ты видишь… Со мной в палате лежала женщина. Такая активная, подбадривала меня. И через день ей чуть-чуть хуже стало, а на второй день она легла, спала… День и ночь поспала, а на утро ей поставили капельницу, капельница прокапала, она умерла. Хотя вот со мной ходила курила. Не ходила, а бегала».
Мария перестала ходить. Были периоды, когда Мария не могла есть, и становилась невесомой. Были периоды, когда она покрывалась кровавыми пролежнями. Но однажды она смогла сесть. Надежда Владимировна говорит: «Сережа домой приходит и плачет. Я говорю: «Ты чего плачешь?» Он говорит: «Мама, я сегодня видел, как Маша сама села в коляску». Вдвоем поплакали с ним. Я говорю: «Слава богу, из всего горя мы дожили и до этой радости». А в июне он увидел, как она встала на ноги. Говорит: «Я потерял дар речи». Мария рассказывает: каждую госпитализацию персонал клиники радуется и хвалит ее за то, что она жива.
На окне у нее зеленеет лук и тюльпаны — красные и черные. Когда она еще не могла ходить, когда она не могла касаться своих детей, это было единственным делом — смотреть на цветы и острую зелень.
— Бывает страшно?
— Честно? Очень.
Она коротко плачет, уткнувшись в грудь Максима. Максим гладит сестру по спине. Мария поднимает голову, выговаривает:
— Очень страшно перед МРТ. Это самая главная процедура, которая показывает рост метастазов, прогрессирование болезни. Пока метастазы стоят. И я живу.
Лапуновы много времени тратят на счастье. Когда Мария не ходила, они выкатывали ее на коляске и возили по ближнему лесу (до этого разведали, по каким дорожкам проедет коляска). Празднуют придуманные праздники — «птичьи» и «сэндвичные» вечеринки. На Новый год Мария покрасилась в синий цвет. Синее платье и туфли. Богдан переоделся в Зинку — сельскую мадам с гигантской грудью, и веселил семью, и Маша смеялась до слез.
Летом 18-го года Мария умирала. Начиналась агония.
— Это август был, — говорит Максим. — Я волком выл, бегал, потому что цены на похороны здесь просто бешеные. И мы тогда уже думали о кремации, чтобы хотя бы как-то минимально сократить расходы. Чтоб где-то на это деньги найти. Слава богу, потом пришли с Богданом в церковь, перед всеми иконами молились, поставили максимум свечей, сколько могли, снова поехали в больницу, Машу тогда уже обезболили, и она уснула.
— Она говорит: у меня были такие чувства, когда отходила, уже и эйфория какая-то, — говорит Надежда Владимировна. — Тут ей систему ставят, она ловила эти системы, и мы караулили, чтоб, не дай бог, не повыдергивала, вены плохие. Руки держали, одну руку привязывали, где у нее катетер, — делали так, чтобы она не сбила его.
— Я привел детей в больницу, — говорит Максим. — Мы не хотели детей приводить. Чтобы они не видели, в каком она состоянии. Но врач сказал: готовьтесь, может быть хуже. И мы посовещались и решили, что дети должны приехать — хотя бы попрощаться. Это действительно очень тяжелый день был. Я тогда с детьми вместе приехал в больницу, мы пару часиков пробыли. Потом я детей забрал домой. Богдан их приводил в чувство, а я бегал по похоронным агентствам, искал, во сколько могут обойтись услуги.
— Ничего не понимала, — говорит Маша. — Не понимала, кто рядом сидит. И никого не слышала, никого не видела. Что происходит. И в один какой-то момент — то ли мозг включился — я услышала голоса детей. И вот с того момента начала приходить в себя. Как-то резко начала понимать, что не должно быть так. И какие-то такие были отрывки, как Платон плакал: «Мама, тебе больно». Резко услышала голоса детей.
Голоса детей

Лапуновы просят изменить имена детей.
Платону шесть. Платон почти не говорит. Летом 18-го, когда умирала мама, ему было три года. Речь осталась почти на том же уровне — он немного лопочет.
Мария говорит: «Это вот как раз те моменты были — я еще тогда ходила, но у меня уже очень страшные боли, это все на глазах детей, я кричала, а дети видели и слышали. Когда совсем плохо было, Максим забирал их. Иногда я сама звонила, просила: забери. Вера очень тяжело это переносит. А Платон подходил: мама, больно, мама, больно… Дети были у Максима. И Вера приехала и говорит: мама, Платон сегодня чего-то как дурачок. Он, говорит, встанет на одном месте, и так смотрит, смотрит, потом трясется, потом начал плакать: к маме хочу. Потом опять — смотрит, смотрит на одно место и ни на что не реагирует.
Я сказала Максиму: привези ко мне. Он где-то час со мной поспал, вроде ничего. И часа через два опять. Мы вызвали скорую».
Максим говорит: «Ребенок сутки пролежал без движения вообще. Лежит и плачет. И больше ничего. Сделали кучу анализов, сделали пункцию спинномозговую. Ему еще плохо обезболили, он рыдал, я ругался с этим анестезиологом. Он без движения. Кричит, не плачет и не шевелится.
Ночь в реанимации, через день более-менее стал отходить.
Врач долго наблюдала, смотрела: вы знаете, у вашего ребенка посттравматический синдром. Мы такие: в таком возрасте? Говорит: да.
Он очень тяжело переживает внутри себя, он не может сказать».
Вера скажет за себя сама.
Психолог в школе меня взбесила. Она не понимает, что если человек решил убить, то он может в любое время объявиться.
Дом как мечта
Незадолго до того, как Максима пытали, как семья бежала из страны, а Мария поняла, что умирает, Мария купила дом.
Это был обычный деревенский дом, с небольшой полоской земли рядом — теперь покинутый.
То, что брошено, остается с нами навсегда.
Свой дом — это их общая мечта. Она отстоит далеко — уходит за горизонт. Но они видят его ясно.
— Большой.
— Желательно так, чтоб друг другу на глаза не попадаться.
— Нет, не в плане того, что там чтоб вообще не видеть друг друга, а в плане того, чтобы у каждого мир чтобы был.
— Свой угол какой-то. Чтобы было место у нас, все время народу много. Если кто-то пришел, чтобы…
— Мы сейчас как-то по отдельности живем, приехали в гости, уехали. А ведь вариант есть, чтобы двухквартирный. Чтоб одним с одного крыльца заходить, другим — с другого, и как будто в гости друг к другу ходить.
— Широкие проемы на всякий случай…
— Большие окна, чтоб много света.
— Чтобы был какой-нибудь маленький участочек, чтобы можно было сажать.
— Потому что у нас всегда дома на земле были, и где-то там какой цветочек посадить…
— Да пусть даже не посадить, а хотя бы на лавочку присесть.
— Пока дети учатся, надо, чтобы все-таки городская черта. И чтоб рядом больница.
— Да. С района в больницу не наездишься, скорую в район не навызываешься. Я вот со многими лежала и знаю, что в районах очень тяжело с больницами. Чтоб если какое-то конкретное обследование — все едут все равно в город. А если вдруг плохо стало, тут хотя бы можно какое-то такси вызвать. Все не так дорого, как с района ехать.
— Тоже такие деревни есть, в которых вот прям глушь глушинная. Ну то есть не такое, чтобы прям в центре где-нибудь. Чтобы все рядом было, близко. Магазины большие. Как и здесь.
— Чтобы для детей. Чтоб не скитались они. Чтоб никто не приходил, не тыкал и не мыкал, что они не тут сели, не тут встали. Хоть холодно, хоть голодно, но каждый жил под своей крышей. Что от меня зависело, я все делала. Но теперь от меня вообще ничего не зависит.
— Ну как же! Все они вокруг вас все равно.
— Сейчас еще как бы такая мечта: очень бы хотелось, чтобы старший сын приехал. Такая черная мысль, чтобы успел с Марией повидаться. Потому что никто не знает, где и как и что.
Семья
Богдан отвозит меня в аэропорт. Максим просит не писать про Богдана ничего — ему страшно за него.
Но я приведу одну его цитату. «Семейные ценности. Все борются за семейные ценности, имея в виду, что такие, как мы, разрушают идеал семьи, что нас не должно быть. Но Лапуновы. То, как они живут, что они приняли меня. Они за друг друга горой. Любят, уважают, защищают. Их семья показала мне, что такое семейные ценности. Самые высшие, какие есть. Я счастлив, что я их часть».
Лапуновы рассказывали мне про семейные советы: раз в месяц (дата назначается) семья собирается и обсуждает текущие проблемы и претензии друг к другу. От школьных дел детей до денег, от нового симптома Марии до судорог Максима. Это простой способ поддерживать мир и общую цель, но я не знаю, какая семья так делает еще.
Ни у одного человека в этой семье, кроме Богдана, нет высшего образования. Сибирская деревня не предполагает. Большинство из них в той, прежней жизни, были строители, подсобные рабочие. Откуда это знание? Только от любви.
Чем платят за такую любовь?
Я знаю, что Богдан пожертвовал призванием, чтобы быть рядом с Максимом.
Это, возможно, самая большая жертва, на которую способен человек ради человека.
Я знаю, что невеста Сергея — Катя — уехала с ним в Москву. Но отказалась ехать с ним дальше. Скрываясь и прячась, она потеряла ребенка.
Эта катастрофа, как круги на воде. Невозможно исчислить все.
Небо
Пандемию Лапуновы переживали тяжело. Все потеряли работу. Но вышел фильм Дэвида Франса «Добро пожаловать в Чечню», и им начали приходить деньги с фестивалей.
На них покупали лекарства.
Они старались видеться поменьше, чтоб не рисковать друг другом.
Оказалось, это были их последние месяцы вместе.
В конце мая Маше стало сложно есть. Открылась рвота.
Думали, что эрозия, но затем на МРТ обнаружили метастазы. Новые метастазы.
Метастазы уничтожили пищеварительную систему.
Надежды не было давно, но ее время сократилось скачком.
Однажды врачи сказали, что Марии осталось шесть дней. Капельницы с морфием. Говорят, на морфии человек не чувствует боль, но чувствует присутствие.
Мария уже не говорила.
Ее семья была рядом.
Потом ей стало легче. Ее помыли и выкатили из клиники — посмотреть на августовское небо.
В пять часов утра она позвонила Максиму. Сказала, что перепутала время. Они поговорили.
В 9.30 утра ее сердце остановилось.
Говорят, что она ушла без боли.
Ничто на целой земле не могло ее спасти.
Ее мечта — об общем доме для ее семьи — может стать реальностью. Если вы решите так.

