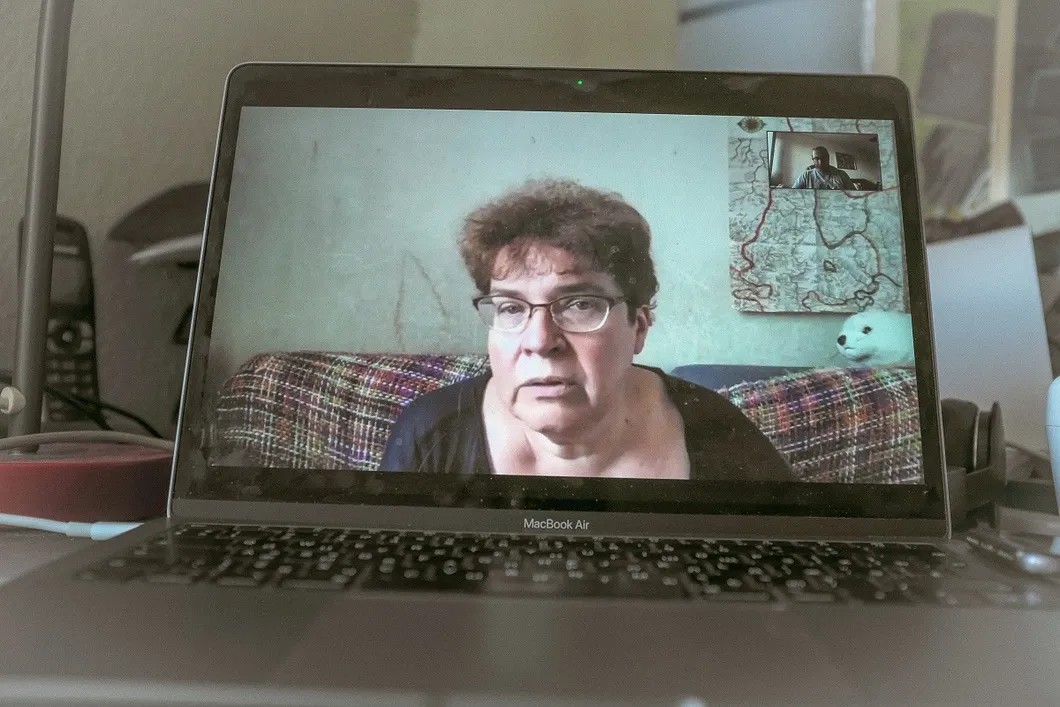
— Тамара Натановна, хотелось бы поговорить и порассуждать об этике и эстетике доноса. Об истории и эволюции этого, так сказать, социокультурного феномена. Есть гипотеза, во всяком случае у меня, что донос становится сейчас в Отечестве новой жизненной стратегией…
— Почему вдруг новой? У доноса, я бы сказала, отличные корни. Я сейчас вот пытаюсь даже сообразить, когда впервые возникли доносы. Это теряется, естественно, во тьме веков. Первое, что мне приходит в голову, это когда Алкивиада в древних Афинах обвинили в том, что он разбивал статуи богов, за что полагалась смерть. И обвинили его ложно. Или вот Сократа обвиняли в развращении молодежи. Мы, конечно, можем усомниться, что это просто обвинение, а не донос. Но ведь это сделали не органы, что называется, правопорядка, а взволнованные граждане. Пришли, сказали, донесли.
То есть мы можем из этого сделать вывод, что донос — в крови у человечества. И мы должны еще сказать, что у этого явления есть разные стороны — та и другая сторона. Это сторона желания и сторона долга. Вот если я действительно хочу обратить внимание на какие-то дурные вещи. Я не просто имею право это сделать, может быть, даже этой мой долг как гражданина? И это очень интересный вопрос, где и когда это воспринимается как обязанность, где это воспринимается как тяжелая ноша, а где как подлость. И, конечно, отношение к доносу очень много говорит о цивилизации.
Я сейчас пишу книгу про смертную казнь и смотрю на наше законодательство. Еще в XVII веке у нас казнь была за недоносительство. Не на все, конечно, преступления. Но если человек планировал государственную измену или совершил ее, а кто-то знал и не донес, то его тоже нужно было казнить. При этом оговаривается, что отец, мать, жена и дети тоже этому подлежат. То есть в какой-то момент истории семейные узы даже по закону не могут быть сильнее государственных. Прямо вот из XVII века история машет ручкой Павлику Морозову. Или вот когда Петр I у нас приказывал священникам раскрывать тайну исповеди, это ведь тоже такая очень характерная вещь.
Но с другой стороны, в нашей культуре, конечно, существует презрительное отношение к доносчику и это отношение здоровое, на мой взгляд.
— Меня в доносе пленит не только его диалектика с вот этой вот хорошей и плохой стороной, но вообще его творческое многообразие. Ведь столько разных придумано форм. Например, во времена инквизиции в Европе существовали так называемые «недели милосердия». Вы могли прийти в эту неделю, покаяться в ересях и вам за это ничего не было. Но заодно вы рассказывали о других еретиках, и вот им уже доставалось на орехи.
— Кстати другая вещь, не менее творческая и популярная — это то, что доносчик в какие-то моменты истории получает часть собственности того, на кого донес. Что конечно, тоже сильно стимулирует.
— Ну или можно получить часть славы, если, конечно, донести на славного человека…
— Или часть власти. Ведь по сути своей донос — это сообщение властям, а с учетом нынешних реалий — еще и общественному мнению — о каких-то поступках, нарушающих норму. А в реакции властей и общественного мнения на это сообщение отчасти проявляется и власть самого сообщившего.
Здесь есть элемент и очищения. Ты доносишь и тем самым как бы очищаешься. Есть очень много примеров. Вот папа мой рассказывал. В университете на их курсе училась девочка-югославка. И когда у нас начался конфликт с Югославией в 1948 году, кто-то к ней подошел и выразил сожаление. Сказал что-то типа: как тебе, наверное, тяжело сейчас. Она тут же пошла и донесла. Так что донос в каком-то смысле — еще и элемент самозащиты.
Но я тут опять возвращаюсь к тому, что в случае с доносом очень сложно провести грань между хорошим поступком и подлостью. Помните, как Достоевский разговаривал с Сувориным? Достоевский говорит: вот вы бы сейчас услышали на улице, что человек собирается совершить теракт, вы бы донесли? Суворин говорит: нет. И Достоевский отвечает: и я бы тоже не донес. Это, конечно, ужасно, но я все равно не могу.
Я много об этом, кстати, думаю. И думаю, что если бы я, допустим, знала про теракт, при всем моем понятном отношении к нашим органам, я бы, наверное, сообщила. Или я вот думаю про Унибомбера (Теодор Джон Качинский, математик, анархист и террорист, который рассылал бомбы почтой. Арестован в 1996 году. — Ред.). Так вот его мать и брат по его опубликованным письмам поняли, что это он и после долгих рассуждений пошли в полицию. И я с ужасом представляю себя на их месте: как решиться на такое? Но я при этом понимаю их логику — обязанность спасти людей.
Так что здесь есть такая тонкая линия. Наверное, в каких-то страшных случаях мы обязаны известить власти, но чуть-чуть шаг в сторону и получается гнусность. Донос — странная, страшная и опасная вещь.
— Любопытно, что судя по истории русского права, когда-то донос был в России регламентирован. Например, в XVIII веке доносить могли только люди приличные, от голодранцев, лишенных имущественных прав, доносы в судебное производство не принимались. Дети не могли доносить на родителей, приказчик — на хозяина, и никто не мог приносить донос на какие-либо коллективные действия. Что еще интересного следует знать из истории русского доноса?
— Донос процветал в России с XVII века, потом, конечно, в Петровскую эпоху, в XIX веке он уходит, потом возрождается при Сталине. Надо при этом понимать, что донос в эти эпохи — своего рода возможность для людей выйти на государство, установить с ним отношения. Любой человек мог закричать «Слово и дело государево» и знал, что он будет выслушан. Понятно, что этим часто пользовались для того, чтобы избежать наказания за собственные дела.
Доносчику первый кнут — прежде всего били самого доносителя, чтобы проверить, точно ли он говорит правду.
Если же ты упорствуешь, тогда тебе предстоит давать показания. То есть донос, как ни странно, это возможность, чтобы власть тебя хоть бы и так, но услышала. Говоря современным языком, это как запись видеообращения к президенту. Это твой личный прорыв. Ты сидишь у себя где-нибудь в Урюпинске и нигде ты управы найти не можешь. Как это сделать? Идти в Москву и где-то там подавать жалобу, это не очень все реально. А вот ты закричал «Слово и дело» и тебя уже за казенный счет везут сюда, к государю.
— Ну раз мы сравниваем эпохи, можем ли мы говорить об эволюции доноса в России?
— Наверное, я бы сказала так: чем больше государство давит на человека, тем выше в системе ценностей ставится донос. И это не эволюция, это такое правило. Об эволюции мы можем, наверное, говорить, когда в России возникли в конце XVIII — начале XIX века представления о личной чести и достоинстве. В это время формулируется, пускай и применительно к дворянам, идея автономности человека и идея защиты его чести. Для декабристов, для Пушкина доносчик — это человек недостойный. Впрочем, в другие времена доносчиков тоже презирали. Это представление существовало даже во времена Сталина. Другое дело, что не все и не всегда могли это высказать.
Понятно, что в те времена, когда в Артеке проходил слет детей, повторивших подвиг Павлика Морозова, на культуре доноса формировались идеалы. Кстати сказать, до сегодняшнего дня
я регулярно в классе обсуждаю Павлика Морозова, и каждый раз бывают люди, которые говорят: ну а если правда его отец сделал такие нехорошие вещи, чего же не донести?
— Но вот с момента формирования в России представлений о личности, о ее достоинстве, о защите чести мы можем говорить о том, что донос становится своего рода суррогатом человеческого достоинства? Или как говорят в фармакологии — дженериком. Дженериком цельности личности.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
— Ну не знаю. Вот вы сейчас сказали, и я начинаю думать. Конечно, с точки зрения порядочного человека доносчик — всегда подлец. Но с другой стороны. Если человек подает жалобу, он ведь каким-то образом себя защищает. Я вспоминаю знаменитую историю с замечательным поэтом Василием Кирилловичем Тредиаковским, которого жестоко избил дворянин Артемий Петрович Волынский. Тредиаковского потом использовали в политической борьбе, вынудили подать жалобу и этой жалобе дали ход, и отсюда началось «дело Волынского», его казнили и так далее. Все это описал в своем «Ледяном доме» Лажечников, где Тредиаковский показан гнусным доносчиком и мерзким шутом. Пушкин, кстати, писал потом: зря вы так, Тредиаковского, мол. Ведь это же была попытка защитить себя. «Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей. В деле же Волынского играет он лицо мученика». Так что тут может быть и такое понимание жалобы.
Грань, как я говорила, очень тонкая. Это, кстати, хорошо видно в школе. Детям говорят: почему когда тебя били и обижали, ты не рассказал родителям или учителям? Потому что доносить стыдно. Это донос или просьба о помощи?
Я думаю, люди, которые не хотят жаловаться, рассуждают так: я не буду доносить и не буду жаловаться. Я сам буду разбираться со своими обидчиками. Это значит, что у меня есть некая автономная сфера моей жизни, в которую никто не должен лезть. Ни посторонний человек, ни государство. Потому что я так себя уважаю и не доверяю это уважение никому, даже государству. Вот купец Калашников не говорит государю Ивану Васильевичу, за что он убил опричника Кирибеевича. Потому что это его личное дело. Или почему кардинал Ришелье так преследует дуэли? Он говорит: если тебя оскорбили — иди в суд. Но разве можем мы представить себе Д’Артаньяна, который подает в суд бумажку?

— Вот почему я говорю о доносе, как о суррогате человеческого достоинства — человеку ведь приходится действовать, готовить себя к доносу эстетически, нравственно, умственно, то есть обращаться все же к лучшим сторонам собственной личности…
— Ну не только собственной. Нужно прежде всего обладать информацией о мире, о системе ценностей, в которой ты живешь. Нужно понимать, что именно даст тебе и твоим истинным качествам легче проявиться. Ну вот этот подонок из Питера, забыла как его зовут, который преследует художницу Юлию Цветкову. Он же осознанно мониторит разные сайты, факты, ищет там запрещенную пропаганду и начинает доносить.
Еще есть вот такая, как мне кажется, очень показательная история — история с мальчиком из Уренгоя, Колей Десятниченко, который выступал в Бундестаге и рассказал о судьбе молодого немецкого солдата, погибшего в советском плену. Какой-то депутат Ямало-Ненецкого, кажется, округа забил тревогу и донес на то, что ребенок оправдывает нацизм. Ясно, что никто депутата об этом не просил, это был его собственный почин. Но ситуация у нас уже создана такая, когда такие люди вырастают именно на таких вещах. Как говорил Салтыков-Щедрин: «Заметьте раз навсегда: когда кличут клич, то из нор выползают только те Ивановы, которые нужны, а те, которые не нужны — остаются в норах и трепещут».
Так что когда создана соответствующая обстановочка, ты знаешь: тебя выслушают. Пускай даже кнутом посекут, но потом все равно выслушают. Ну и, конечно, важны еще и вещи внутренние. Какие-то ясные мотивации: отомстить, унизить, что-то получить.
Я всегда в одиннадцатом классе задаю своим ученикам читать, по-моему, один из величайших романов, написанных в XX веке в нашей стране. «Факультет ненужных вещей» Юрия Домбровского. Роман, который очень недооценен. И там есть глава, когда одного из героев раскручивают на то, чтобы он стал осведомителем, и там эпиграф из Гоголя: «Он умер и сейчас же открыл глаза. Но был он уже мертвец и глядел как мертвец».
То есть, конечно, человек после доноса… Умирает.
Но с другой стороны: мы видим сейчас столько народу, которые сделали это, и ничего. И это меня не устает поражать. Надо было бы сейчас сказать: вот человек становится доносчиком, и он уже гнусный, подлый, мерзкий — у него лицо должно быть, как портрет Дориана Грея. У него на лице все это должно отразиться. Ан нет! Мы видим все эти милые лица, ничего на них не видно. Но я все равно уверена, что внутри их что-то гложет. Или правильнее так сказать: лучше ни разу черту не закладывать своей головы.
— А разве не может быть донос гармоничным? Я здесь имею в виду донос как творческий акт, как деяние, которое в определенных условиях и обстоятельствах делает тебя самим собой.
— Ну очевидно, что внутренне доносчик находит с собой общий язык — он понимает, что все сделал правильно. Ему надо преодолеть когнитивный диссонанс. А иначе как жить?
— Я называю такой порядок вещей жизненной стратегией. То есть это такой набор установок и действий, которые либо ведут тебя к цели коротким путем, либо просто гармонизируют твои отношения с миром. Может быть донос действительно такой современной жизненной стратегией?
— Ну конечно. Сейчас это в какой-то степени модно. Ты становишься такой… По-английски это называется whistleblower. Ты не доносчик, ты просто привлекаешь внимание, ты взволнованный гражданин. А попытки возразить этому волнению — они сразу упираются в такую волну общественного возмущения, что просто обалдеть.
Формы современного доносительства разнообразны. Одни люди действительно мониторят социальные сети и что-то там выискивают. Другие поднимают тему харрасмента. Я тут ничего, наверное, оригинального не скажу, но я считаю, что очень правильное, хорошее, благородное дело разоблачения насильников сейчас на моих глазах выхолащивается и превращается в охоту на ведьм. И стоит сказать об этом прямо, как уже оказывается, что ты оправдываешь всех насильников. Все это меня совершенно убивает. На фоне действительно мерзких преступников страдает репутация приличных людей. Это значит, что борьба за достоинство женщин сводится к дурному анекдоту. И это в нашей стране, где домашнее насилие не просто процветает, а считается чуть ли не нормой, где у изнасилованных не принимают заявления в полиции, а если принимают, то еще глумятся. И это в нашем обществе, где принято обвинять жертву. И тот, кому действительно когда-то нужна будет помощь, десять раз подумает, обращаться за ней или нет.
— Ну может быть причина в том, что в каком-то количестве случаев речь не идет о решении какой бы то ни было проблемы? Речь просто о самопроявлении в успешной, востребованной и даже, может быть, выгодной форме — форме доноса.
— Ну наверное. Такая извращенная самореализация. Но тут важно понимать, что этот тип коммуникации, назовем его так, перешел в совершенно другую фазу. Как я уже сказала, донос — это некое сообщение государству, но также и общественному мнению. Нынешний феномен доноса состоит в том, что теперь, благодаря социальным сетям, даже не надо писать в ФСБ. Хватит Сети. Даже совсем не обязательно писать о преступлении. Можно написать, что человек взял у меня деньги и не отдал. Он меня бил. Он меня оскорблял. Или просто: он — подонок. И все. И слово не воробей. Всегда есть кто-то, кто тебе поверит.
— Ну это называется новая этика. В ней меня больше всего поражает, что ее догмы — это по сути всего лишь система запретов. Тогда как этика все же должна изумляться тому, что разрешено. Во всех этих нравственных дискуссиях, как ни странно, нет даже попытки найти и озвучить идеалы, установки, принципы современной личности. Странно вести разговоры об этике по тех пор, пока непонятно, чья это этика.
— Знаете, как Воланд говорил у Булгакова про осетрину второй свежести. Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя.
Вот и этика тоже. Она либо есть, либо нет. Что за фигня, простите? Этика, она этика и есть. В частности, это уважение к человеку. Давайте помнить о конкретных людях и уважении к ним.
У нас вообще сейчас время обобщений, а не конкретных людей.
— Ну может быть потому, что мы знаем какой конкретно человек, какой образ находится в сердце этой тьмы. Вместо человеческого достоинства у него авторитет. Вот и вся причина. Авторитет — основа стратегии выживания. Я это называю философией обреченности.
— Люди бывают разные, я уверена. Не все такие. И это радует. Я не верю в общее понимание чего бы то ни было. Это излишняя генерализация. Люди очень разные — вот это важно. Их очень много. Есть очень плохие, есть очень хорошие. А у большинства из нас, грешных, все это намешано. Я знаю достаточное количество людей, у которых есть твердый нравственный стержень. Вокруг меня их есть некоторое количество и это дает мне опору.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68

