
— Владимир, судя по тому, что о вас говорят и пишут, все у вас в жизни получается, причем чуть ли не с детства. Вы даже были самым молодым главным редактором газеты «Известия» в истории человечества. Потом вам удалось плюнуть на журналистику, живете вы теперь в Нью-Йорке, управляете успешным рестораном, сведения о том, что вы испытываете великорусскую тоску, не поступают. Давайте поговорим с вами о счастье?
— Супер. Буду сейчас напрягаться. Вопрос немного застал меня врасплох. Про счастье лучше общаться, наверное, с мудрецом, а мне придется сбивать с себя звериную серьезность, иначе получится просто смешно.
— Так а что вам сбивать. Вот родились вы в Вятке. Это ли не счастье?
— Семья моя оказалась в Вятке, потому что папа мой — режиссер. Он уехал с мамой и старшей сестрой работать главным режиссером Кировского ТЮЗа. Вообще семья — это отдельная тема для меня. И мама и папа мои родились в Китае. Папа в Циндао, мама в Шанхае, но оба выросли в Шанхае, они одноклассники, учились в школе при советском консульстве, сидели за одной партой. Потом их семьи после смерти Сталина вернулись в Советский Союз, они жили в разных городах, а потом во взрослом возрасте встретились в Москве.
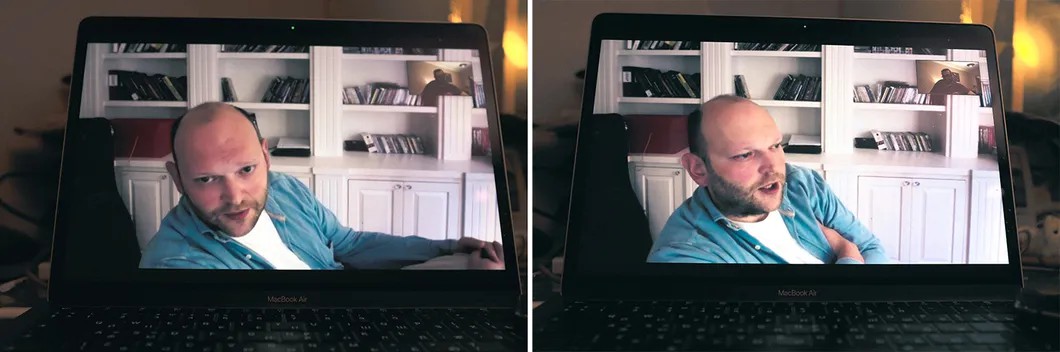
Папа окончил ГИТИС. Дипломный спектакль он поставил в Смоленске и после этого не мог найти работу — попал в число неблагонадежных режиссеров нового поколения. Послонялся, помыкался. Вятка, Кировский ТЮЗ — единственное, что ему предложили, а он с радостью согласился. До сих пор вспоминает это время как абсолютную сказку и свободу. Там он стал полноценным художником. А потом уже его пригласили в Москву.
Родился я действительно в Вятке, но меня рано перевезли оттуда: мне было полтора года, я ничего не помню. Но когда мне было лет двенадцать или тринадцать, мы поехали с папой вдвоем в Киров то ли на юбилей ТЮЗа, то ли кого-то из его друзей. Так вот, семейная байка гласит, что на обратном пути в поезде я стоял и плакал. Папа спросил меня, что случилось. Я ответил: не хочу уезжать. А почему ты не хочешь уезжать? И я говорю: потому что здесь снег белый и люди хорошие. Так вот,
чистый снег и чистые люди — это до сих пор мое детское представление о счастье. Может быть, слишком такое поэтическое…
— Да нет, вполне отчетливое. Что-то к этому прибавилось после того, как вы оказались в Москве?
— Я поменял семь детских садов, пятидневки, пионерские лагеря — я был очень социализированный молодой человек. Мама и папа работали, меня надо было куда-то приткнуть. Из таких ярких впечатлений я помню, как дома играл в маджан. Все вокруг называют эту игру маджонг, а я очень ревную, потому что меня с детства научили, что это маджан. Это была такая коробка из красного дерева, привезенная родителями еще из Китая. Я ее ставил, и это была сцена. А фишки из слоновой кости у меня были артисты. И я играл в театр.
Вообще в театре с папой я провел в детстве очень много времени. Потерял там свой первый зуб. Ходил по всем цехам. Сидел на всех репетициях. Лет, наверное, в десять играл в массовке спектакля «Долгое-долгое детство». Дело происходило в каком-то узбекском ауле. Там была сцена жатвы, и все во время жатвы свистели. Я за лето тоже научился свистеть, посвятил этому все каникулы. И как только я научился, папа закрыл этот спектакль.
То есть я мечтал быть актером. И лет примерно в двенадцать я понял, что актером я буду очень плохим. Я так сказал папе: когда ты меня попросишь, я не смогу заплакать или засмеяться. И все. На этом моя карьера актера закончилась. И началась карьера журналиста.
— Каким образом?
— Очень просто. Этот образ назывался — дядя Юра Щекочихин (Юрий Петрович Щекочихин — один из самых известных советских и российских журналистов, писатель, драматург. Работал в знаменитой когда-то «Комсомолке», был заместителем главного редактора «Новой газеты».— Ред.). Они с папой дружили. Он писал пьесы, в театре его звали Щекочехов. Я всегда сидел и слушал, раскрыв рот, их с папой разговоры, истории из командировок Юрия Петровича. Он для меня до сих пор — образ смелого, романтичного, идеалистичного, отважного журналиста, который помогает людям и меняет мир к лучшему. И я хотел оказаться в ряду таких людей. И дядя Юра помог мне с этим единственный раз в жизни. В двенадцать лет он меня устроил на практику в «Алый парус» (легендарная рубрика о подростковых проблемах в «Комсомольской правде». — Ред.). Я там, кажется, так ничего и не написал, но мне очень понравилась печатная машинка, у которой была специальная кнопка: ты на нее нажимал, и она сама замазывала то, что ты только что напечатал. Это произвело на меня очень сильное впечатление.
— А вы не пытались понять, почему у вас в жизни все так рано получалось? Только, казалось бы, родились, научились свистеть, а у вас уже печатная машинка с замазкой и дядя Юра Щекочихин. Только попробовали что-то напечатать и уже — главный редактор «Известий».
— Не знаю. Мне кажется, все это могло быть возможно только в это время и только в России.
Представить себе, что здесь в Америке в 26 лет можно стать главным редактором какого-нибудь национального медиа, тем более печатного, просто невозможно.
Наверное, я просто попал во время сумасшедших круговоротов и скоростей. Каждый день, каждый час происходило слишком много всего невероятного, и это было нормой.
— Ну вы жили в это время не один, были и другие люди, но у них ничего похожего не вышло. Может быть, вы с детства несли в себе нечто такое яркое, невероятное, что дало себя знать в процессе круговорота?
— Конечно, есть какие-то яркие пятна, картинки. Я вот помню, что зарабатывал первые свои деньги простым способом: расклеивал на заборах объявления «Печати и штампы» и мыл стекла машин на перекрестках. И вот я семье на новый год сделал подарок. Пошел в супермаркет на Новом Арбате и купил курицу-гриль и двухлитровую бутылку кока-колы. Я помню этот эпизод, как будто это было час назад. И запах, и цвет, и сам жест. Надо знать моих родителей, конечно. Естественно, это был праздничный стол, и на этом столе не было ничего, кроме этой курицы и бутылки кока-колы. Не знаю, насколько это определило мое будущее, но это делало меня счастливым, это абсолютно точно.
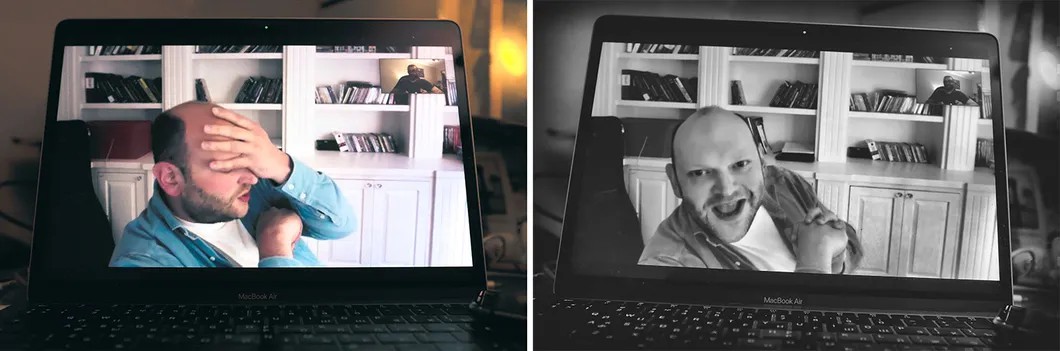
— А что-то делало вас не таким уж счастливым? Вот, например, любопытен эпизод вашего ухода из родимой журналистики.
— Я журналистику действительно любил и больше не люблю. Я помню, разумеется, все свои заметки, все эти яркие моменты, когда журналистика стала для меня средой обитания. Помню, в восемнадцать лет я работал в «Известиях» и приехал в село Костин Лог в Алтайском крае, километров триста от Барнаула. Для меня до сих пор это синоним жопы мира, а там, между прочим, выбирали главу села. Я приехал писать про эти выборы и заболел. Ходил с высокой температурой по кандидатам, и они меня лечили. Они были взрослые люди, а к ним приехал больной 18-летний московский корреспондент. И вот они меня — кто медовухой, кто банькой, кто самогоном. А в итоге главой выбрали единственного на весь район педиатра, а когда выбрали, поняли, что педиатра в селе больше нет. Конечно, мне хотелось этим жить, об этом писать. Но были потом и другие, менее радостные картинки. Помню две из них.
Первая, когда я стал сам себе отвратителен. Был новогодний президентский прием в Кремлевском дворце. Я тогда работал уже главным редактором и генеральным директором газеты «Труд». Я сбежал с этого приема и на абсолютно пустом эскалаторе спускался один в абсолютно пустое фойе. И вот я еду и чувствую себя дояркой. Как будто вокруг советские времена, и я выписан сюда по квоте: вот привезли в Кремль пять доярок, шесть казахов, немного от научной интеллигенции и чуток героев соцтруда. Никаких моих заслуг тут нет и не может быть, вообще ничего не может быть, потому что ничего не меняется.
Вторая картинка — это встреча с Дмитрием Медведевым, который был тогда еще президентом России. Встреча была где-то на Рублевке, но не в резиденции, а где-то за ужином. Медведев и человек пятнадцать главных редакторов. Я был очень глупым за этим ужином и верил в Дмитрия Анатольевича, как в окно возможностей. Встреча длилась часа три как минимум. И когда я оттуда уехал в Москву, в машине минут за двадцать я понял, что никакой разницы между Путиным и Медведевым нет, Путин даже более органичен, чем Медведев. Они поменяются местами, и как минимум до 2024 года ничего в России происходить не будет вообще. А это был 2010-й, кажется, год. То есть пятнадцать лет пустоты!
А мне уже тридцать с небольшим. И я подумал: блин, да какого хрена?!
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
Я, кстати, про эту рокировку поспорил тогда с моим нынешним партнером Мишей Зельманом, и как видите, выиграл этот спор.
— На что хоть спорили, если не секрет?
— Кажется, на ящик шампанского.
— Давайте тогда поговорим о том, что было после. Я немного читал о ваших приключениях в Нью-Йорке и об открытии там ресторана Зельмана «Бургер и лобстер», которым вы управляете. Про все вот эти трудности с получением алкогольной лицензии, про ваши встречи с местными добрыми самаритянами, с советом жителей, которые разрешили вам, приезжему из русской тундры, открыть на районе огромную кабачину, про то, что у вас все время срабатывала пожарная сигнализация и что все шло не так. Ну и про огромный успех вашего заведения. Если суммировать все эти эпизоды познания чужбины, есть в остатке какие-то базовые, существенные ценности, к которым вы там приобщились, пока мы тут сидим с Путиным и без выигранного вами ящика шампанского?
— Ох. Ну я буду сейчас, как это тут называют, громко думать вслух. Потому что каждый день — открытие. Это ведь очень смешно. Я Америку очень люблю с самого детства, но до того, как сюда переехал, в Америке не был ни разу. Я же защищал кандидатскую свою диссертацию по американским президентским праймериз. То есть я был такой классический советский специалист, который никогда не видел и не чувствовал того, в чем он так хорошо разбирается. И вот живу в Америке уже семь с половиной лет и до сих пор меня удивляет все, что я здесь вижу.

Ну вот сейчас все сидят по домам — коронавирус. Дети учатся дома, школы закрыты, но детские дни рождения никто же не отменял. И вот вчера был день рождения у одноклассника моей дочери. Слушайте, я впервые увидел, что такое caravan party. Значит, именинник с родителями стоит у обочины, а мимо них проезжают машины, из люков и окон которых высовываются дети и машут имениннику, показывают ему какие-то поздравительные плакаты, которые они сделали, все обвешано шариками. И моя дочь тоже высовывалась, махала этому Филиппе. Разве это не потрясающе?
Или вот другая история с моим старшим сыном. Была у него в свое время вечеринка у нас дома, так называемая open party. Я живу за Нью-Йорком, в таком совсем небольшом городе, почти деревне. И вот публично объявляется, что у Алекса Бородина вечеринка, а дальше ты уже не контролируешь ситуацию, количество людей и так далее. У нас, например, было триста человек. И что тебе делать? Ты идешь в полицейский участок и говоришь: па-ма-ги-те!!! И они дают тебе заполнить специальную форму, и ты как бы нанимаешь пару полицейских, которые обеспечивают безопасность. Официально, за деньги, после своих смен. Счет потом высылает город, и ты выписываешь чек, и все. Я до сих пор этим тоже потрясен.
Что же касается моей работы и ресторана, то это настоящее счастье. Наверное, меня слишком мотануло, так я испугался в свое время себя-доярки. Но именно тут, на кухне, я вдруг понял, что сделать что-то вкусное и увидеть, как незнакомый человек получает от этого удовольствие, это что-то простое, но необычайное. Это сильные, искренние эмоции. Масса эмоций.
Когда я только ушел из медиа, я считал, что все на свете — медиа, все. Компании, политика, весь мир — это одно огромное медиа. А сейчас я считаю, что все на свете — ресторан. И
ресторан, в отличие от медиа, — гораздо более прямой путь к тому, чтобы сделать человека счастливым.
Это лучше, чем газета, которая каждый день печатает хорошие заметки.
— То есть счастье — это лобстер.
— Ну например. Да. Если мир — это рестораны, то все хорошее в нем — это, очевидно, лобстер.

— А что такое в этом мире коронавирус?
— Это такое какое-то кино. Такое кино, в котором все мы играем какие-то эпизодические роли. Я не хочу уходить в какую-то мистику или религиозную тему, но мне кажется, что это большое испытание, эпохальное событие. Я впечатлен глубиной изменений. Поменялась и локальная, и глобальная повестка. Все проблемы, которые были до сих пор, про них можно забыть. Никакого MeToo. Никакого Харви Вайнштейна. Кризис в международной системе права и вообще в международной системе организации жизни. Никакие международные организации в этой ситуации не сработали. Нет ни ООН, нет ни ЕС, нет никакой Всемирной организации здравоохранения. Все это отменяется. Остались только лидеры разной степени сумасшествия, которые растаскивают мир в стороны и делают общую конструкцию крайне неустойчивой. Возникает вызов всем доктринам безопасности всех стран. Очевидно, что будут пересмотрены все военные бюджеты. Потому что сработало то, на что никто ничего не тратил. Все, на что тратили, оказалось беспомощным.
Ну и разумеется, это огромный вызов всему частному, человеческой свободе. Пропуска, скан лиц. Это противоречит столпам западной цивилизации. Это не новость, конечно. Это все существовало, но коронавирус дал этому невероятный импульс развития. И это дико меня тревожит. Это очень большой вызов.
Позитив состоит в том, что это пройдет. Сильные станут сильнее, слабые слабее. И тут я очень верю в лобстера, как в символ человеческого счастья. Поэтому мы скоро собираемся заняться его доставкой. В конце концов, жизнь идет. Люди умирали, и умирают. Люди влюблялись, и влюбляются. В этом смысле ничего не остановилось. Наоборот: происходят дико интересные события. И именно они вырабатывают какие-то особые частицы, которые заставляют тебя улыбаться, когда хочется плакать.
— Тогда логично было бы задать вопрос, который уместен в конце разговора об улыбке и слезах. Вы счастливый человек?
— Да, я счастливый человек. Я, конечно, бью себя сейчас по рукам и по губам, потому что пытаюсь давать определение счастью. Это катастрофа. Кто я такой?

— Ну это как раз несложно. Вы — Владимир Бородин, в 26 лет вы были главным редактором «Известий», а сейчас управляете рестораном в Нью-Йорке.
— Закрытым в настоящий момент рестораном, если быть точным. Но. Тем не менее. О счастье. Счастье — это одновременно что-то конкретное и неконкретное. Счастье — общаться с любимыми людьми, с родными. Счастье — мои трое детей. Счастье — когда ты начинаешь ценить другие вкусы, природу, ветер. Счастье, когда ты едешь на мотоцикле по пустым улицам и можешь повернуть направо, а можешь повернуть налево. Счастье — это объем. Меня невероятно увлекает объем моей собственной жизни. Вот вместе с Щекочихиным, курицей-гриль, «Известиями», ощущением доярки — это было безумно, безумно круто. Но объем, который впереди, — он еще больше. И спасибо коронавирусу, который этого объема только добавил. Ты теперь не знаешь, кто ты, где ты и где потом окажешься.
Я сегодня утром мечтал. Надо вообще заставлять себя мечтать, все время. И сегодня я понял, что у меня есть настоящая мечта. Я очень хочу полететь в космос. И я полечу туда, сто процентов. Не знаю когда именно, но это точно будет.
— Летите, конечно, Владимир. А мы с лобстером будем наблюдать за вами с Земли.
— Я обязательно позову вас с собой.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68