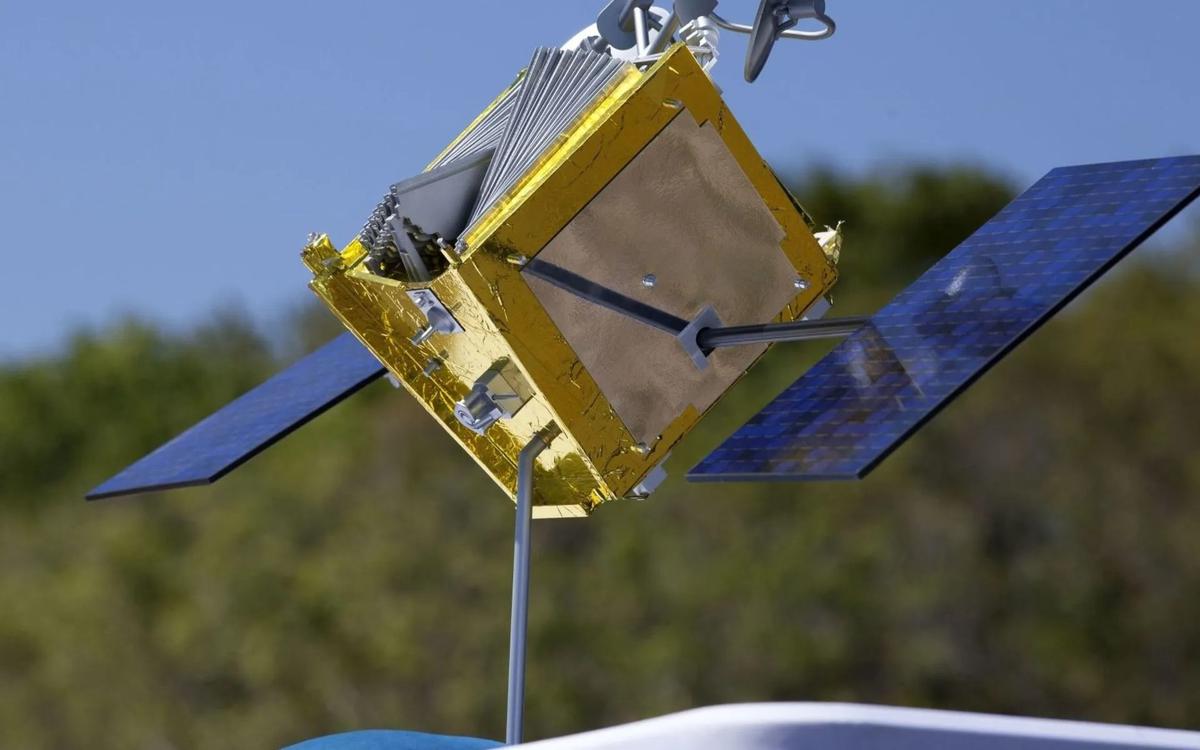Поскольку на МАКСе никаких следов самого амбициозного проекта нашей космонавтики «Сфера» не обнаружено, ясно, что выставлять нечего даже на бумаге. Амбициозный — не преувеличение, планируется в пять раз больше одновременно работающих аппаратов, чем все ныне действующие, а также частично рабочие и поддающиеся реанимации спутники России. По неофициальным данным, предполагается потратить полтора триллиона рублей.
Если верить утечкам, это минимальная сумма. Она больше, чем утвержденный бюджет всей Федеральной космической программы на 2016–2025 годы, и в два раза больше, чем планируют на создание сверхтяжелой ракеты «Енисей». Получается, не так уж «Енисей» и сверхтяжел для бюджета. И при таком замахе о самом проекте «Сфера», его целях и задачах, возможностях и ограничениях ни экспертам, ни российскому бизнесу, ни предполагаемым зарубежным потребителям неизвестно почти ничего. Объявлено, что «Сфера» будет использовать «суперкомпьютерные многопроцессорные системы, цифровые геоинформационные технологии и самообучающиеся нейросети». Сегодня и студенческие стартапы закладывают подобную риторику в презентации для инвесторов.
Все это не помешало Коллегии ВПК на прошлой неделе одобрить этот грандиозный проект. Коллегию возглавляет вице-премьер Юрий Борисов, который одновременно является председателем Наблюдательного совета Госкорпорации Роскосмос. Конфликт ли тут интересов или совпадение, не так важно: главное, ясности не прибавилось. О «Сфере» страна впервые узнала из выступления президента Владимира Путина более года назад. В ведомственной логике Роскосмос должен был за это время подготовить основные аргументы, чтобы публично обосновать проект. Кратко, емко и убедительно.
Но Роскосмос упорно молчит, на связь с обществом не выходит: его аргументы неизвестны, неизвестно даже, есть ли они вообще. Остается анализ аргументов (их всего два) в поддержку «Сферы», которые приводят ратующие за проект редкие эксперты, близкие к Роскосмосу. Это возможность многократного снижения себестоимости спутников за счет перехода от штучного к мелкосерийному производству. Пишут также о повышении эффективности системы за счет объединения в единую группировку спутников всех функционалов — спутниковой навигации (ГЛОНАСС), космической связи и съемки (ДЗЗ).
Что на это ответить? Студентам известно, что эффект масштаба (производства) действительно снижает себестоимость за счет разделения общих постоянных затрат на большее количество изделий, но он конечен и слабо влияет на переменную часть затрат. В нашем случае это стоимость комплектующих и микроэлектроники категории Space.
Разрыв тут для России запредельный: Airbus обещает делать спутники связи OneWeb дешевле 1 миллиона евро.
Но дело еще хуже: догонять конкурентов нам надо по стоимости спутника, приведенной к его функциональным возможностям и сроку активного существования. Ведь нет проблемы сделать просто спутник с минимальной ценой — он должен долго и эффективно работать в космосе.
Если ваш спутник связи передает в два раза меньше трафика, чем аппарат конкурента, то вы должны сделать его в два раза дешевле. А если ваш спутник живет на орбите 5 лет, а у конкурента этот показатель 15 лет, то вам необходимо сделать спутник в три раза дешевле. Ну а если вы проигрываете и там и там, то ваше дело труба.
Вывод прост и однозначен: возможность ценовой конкуренции для системы «Сфера» упирается в отечественные компетенции в части микроэлектроники. Именно они определят и стоимость спутниковых комплектующих (переменные затраты), и функциональные возможности спутников, и время их работы в космосе. А то, что у нас тут неблагополучно, — секрет Полишинеля.
Посмотрите на текущее состояние системы ГЛОНАСС — группировка уже не в полном составе, покрытие всей планеты сегодня невозможно. Так может, проект «Сфера» это вовсе не о космосе? Если это очередная попытка возродить на деньги бюджета всю российскую микроэлектронику, то доверия ей еще меньше, учитывая предыдущий опыт.

Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
О росте эффективности при «горизонтальной» интеграции различных космических систем в единую суперсистему писать совсем просто. Жизнь и рынок доказали, что это тезис просто ложный. Эффективная синергия у космических систем имеет место, но идет она не по «горизонтали» — «космос–космос», а по «вертикали» — «космос–воздух–земля». Спутниковая навигация на практике давно интегрирована с наземными решениями: высокоточными системами, indoor-навигацией (в закрытых помещениях). Данные спутниковой съемки активно интегрируются со снимками с самолетов и дронов. Космическая связь дополняет и дублирует наземную (этот принцип положен в основу OneWeb и Starlink).
Именно так выгодно потребителю. Роскосмос с проектом «Сфера», видимо, считает, что его выгода важнее, чем выгоды каких-то там потребителей.
Глобальный потребитель, конечно, такую систему проигнорирует, а вот российскому — куда будет податься?
Не запланирована ли тут обязательная работа только с оборудования самих разработчиков «Сферы»? Так пытались сделать в 2000-х, когда около 10% средств ФЦП ГЛОНАСС шло на разработку и внедрение потребительского оборудования с дизайном в стиле стимпанк. Выкинули миллиарды бюджетных рублей, а в октябре 2010-го Стив Джобс, не затратив ни рубля нашего Минфина, сделал ГЛОНАСС глобальным потребительским стандартом. Очень похоже. Да, кстати, и идеологи те же.
Ничего не слышно о принципах работы на рынке и привлечении частных инвестиций. Это в корне отличает «Сферу» от проекта «Эфир», который был презентован прежней командой Роскосмоса в мае 2018 года. Тот проект был публичной офертой Роскосмоса к совместной работе российским и зарубежным инвесторам. И прямо ставил задачу минимизировать расходы бюджета на получение Россией доступа к космическому интернету. «Сфера» же предполагает максимальное госфинансирование.
Не слышно и о поиске зарубежных партнеров для проекта «Сфера», без которых работа на глобальном рынке нереальна. Без опоры на глобальные рынки составить конкуренцию космическим операторам Digital Globe, Iridium, OneWeb и Starlink невозможно в принципе. Аукнется тут и история с недопуском обвиненной в шпионаже коммерческой системы OneWeb на российскую территорию. Кто после такого сможет продвинуть на мировой рынок государственную «Сферу»?!
Итоги таковы: рынок для системы «Сфера» — это территория России, или 4% поверхности Земли, для системы OneWeb — 96%. Есть желающие конкурировать при таких исходных условиях?
Почему частных инвесторов и глобальных партнеров для «Сферы» не ищут? Выскажу предположение. Что такое любой коммерческий или международный проект? Будь то системы ДЗЗ, космического интернета, сверхтяжелой ракеты или окололунной станции. Это публично защищенный бизнес-план. Это обоснованный объем финансирования. Это прозрачный бюджет исполнения проекта. Это безусловное достижение заданных технических характеристик. Это жесткие сроки выполнения, наконец.
А кому в Роскосмосе это надо? Один раз в 1990-х от финансовой безысходности чиновникам космической индустрии пришлось участвовать в проекте Международной космической станции, где каждый доллар был посчитан. Больше в эту ловушку не попадутся. Может, потому и нет после МКС у Роскосмоса ни одного большого коммерческого или международного проекта.
Космические системы — необходимый элемент цифровой экономики на земле. Что же делать со «Сферой»? Вернуться к рыночным подходам, привлечь к разработке идеологии реальный бизнес и иностранных партнеров. Например, из Китая. Там и конкурентоспособная микроэлектроника, и умение работать на глобальных рынках, и необъятный внутренний рынок. А далее привлечь и другие страны ШОС, БРИКС. Тут тебе и недостающие компетенции, и доступ на глобальные рынки, и распределение затрат.
А пока у проекта «Сфера», судя по всему, нет ни одного тезиса, который можно защитить в публичной дискуссии. И никто не может Роскосмос к такому обсуждению принудить. Зато есть желание получить бюджетные триллионы.
Как тебе такое, Илон Маск?
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68