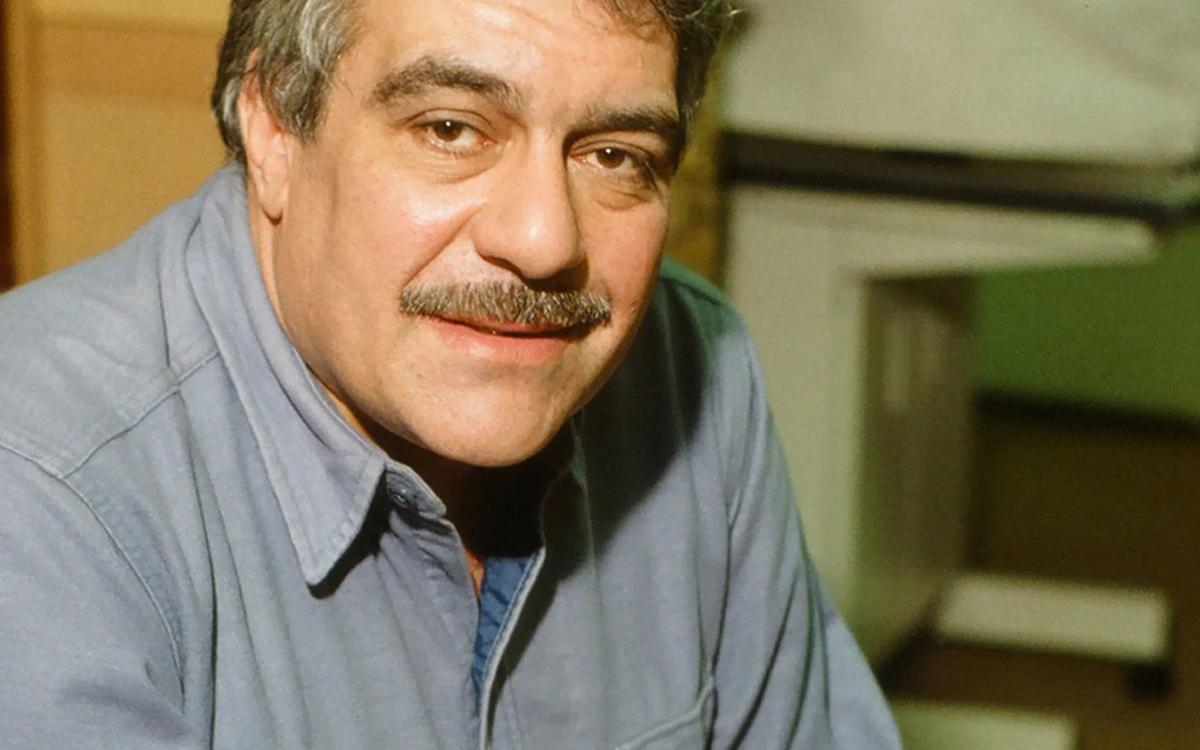Из эссе Иосифа Бродского «О Сереже Довлатове» следует: первая их встреча относится к февралю 1960 года — «в квартире на пятом этаже около Финляндского вокзала. <…> Квартира была небольшая, но алкоголя в ней было много». Более отчетливых подробностей ни у того, ни у другого в памяти не закрепилось. Как и у хозяина квартиры Игоря Смирнова, знавшего Бродского по филфаку университета, где в 1959 году на финском отделении появился Довлатов.
Достовернее сказать: не познакомиться они в ту пору не могли.
Бродский в бывший дворец Петра II и сам заглядывал — на ЛИТО, порой на занятия, хотя студентом не числился. Осенью 1961-го устроился на работу поблизости — в здании Двенадцати коллегий. Это время написания «Шествия», крупнейшего за всю его жизнь стихотворного полотнища.
Наступившая после 1956 года эпоха прошла под знаком раскрепощения чувств, а потому на первое место вышла поэзия и вместе с ней ее утраченные в советские годы понятия и символы. В первую очередь воспарила — душа. Особенно важно, что это была поэзия молодых, в том числе двадцатилетнего Иосифа Бродского:
…Вернись, душа, и перышко мне вынь! Пускай о славе радио споет нам. Скажи, душа, как выглядела жизнь, как выглядела с птичьего полета?
Покуда снег, как из небытия, кружит по незатейливым карнизам, рисуй о смерти, улица моя, а ты, о птица, вскрикивай о жизни.
Вот я иду, а где-то ты летишь, уже не слыша сетований наших, вот я живу, а где-то ты кричишь и крыльями взволнованными машешь.
Душу автора этих стихов, символика которых сохраняется и у позднего Бродского, Сергей Довлатов назвал «фантастической и неуправляемой». Соль в том, что неуправляемая душа много выше управляемой. В искусстве это, несомненно, так. И уж в поэзии — тем более.
Скорее всего, к самому началу 1962 года — Довлатов уже покинул университет, но еще не оказался в армии — относится их собственно литературное сближение. Иосиф Бродский приходит читать «Шествие» к Сергею Довлатову в его квартиру на Рубинштейна, 23. Казалось, успех обеспечен: слушателям поэзия автора и он сам были знакомы, в крайнем случае о ней или о нем они были наслышаны. Довлатову эта поэзия была, несомненно, близка, и он любил повторять стихотворение, как бы выражавшее его собственный опыт:
Нет, мы не стали глуше или старше, мы говорим слова свои, как прежде, и наши пиджаки темны все так же, и нас не любят женщины все те же…
Однако встреча обнадеживающей не оказалась. Публика собралась, заниженной самооценкой не страдавшая. Все сплошь — «красивые, двадцатидвухлетние». Так что аудитория и автор взаимного благоволения не выказали: слишком длинной показалась эта «поэма-мистерия», слишком тянулось ее прочтение, чтобы надолго отвлечь от застолья…
По одной из мемуарных версий, поэт в сердцах завершил вечер цитатой: «Сегодня освистали гения!» Освистывать никто, конечно, не освистывал. Но среди молодежи прохладное отношение к сверстнику, выступающему с позиций гения и занявшему собой целый вечер, особенного удивления не вызывает. Так или иначе, в дальнейшем Бродский к Довлатову с чтением стихов не заглядывал. Да и случаев к тому представлялось мало: один вскоре очутился на Севере, в охране лагерей, другой оказался под следствием и отправлен в края, не далекие от мест, где отбывал армейскую службу будущий автор «Зоны».
Во второй половине 1960-х встречи возобновились в близкой обоим среде людей, «великих для славы и позора», — предвидение Бродского из цитированного стихотворения 1960 года, растрогавшего не одного Довлатова.
Что касается литературной славы, то пик ее в Ленинграде пришелся и для Сергея Довлатова, и для Иосифа Бродского на одно число: 30 января 1968 года, день, когда в Доме писателя прогремел «Вечер творческой молодежи Ленинграда». Мероприятие официальное, но организованное, благодаря состоявшему в Союзе писателей Борису Вахтину, без опеки курирующих «молодежную политику» инстанций.
Белый зал Дома писателя был заполнен сверх всяких представлений о его вместимости, и на улице перед входом все равно оставалась толпа. Вел вечер Яков Гордин, выступали помимо Довлатова и Бродского Татьяна Галушко, Александр Городницкий, Елена Кумпан, Владимир Марамзин, Валерий Попов и Владимир Уфлянд.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
Для Довлатова это было первое в жизни крупное выступление перед публикой. От волнения он чуть ли не вцепился в трибуну. Читал при этом превосходно и до Бродского оживил зал сильнее других. Рассказ этот сейчас публикуется в несколько иной, нью-йоркской, редакции под названием «Чирков и Берендеев». Так что прочитать его можно, основные пассажи, смешные и острые, автором сохранены. Например, такой: в нем отставной полковник, наставляя нагрянувшего к нему пройдоху-племянника, приводит весьма убедительный с его точки зрения аргумент в пользу законопослушного поведения: «Заметить, даже в русском алфавите согласных больше, чем несогласных».
Но все затмила декламация Бродского. Свою «Остановку в пустыне» он почти кричал — такая была вложена в его речь интенсивность переживания. Ее накал всецело передался залу: даже на сцене Татьяна Галушко замерла, прикусив платок. Более яркого впечатления от литературного собрания трудно было и вообразить. На том вечере действительно предстала молодая русская литература — не загнанная, не толкающаяся в дверях редакций, а самостоятельная и мощная. И стало ясно: все это должно чем-то закончиться: то ли бурным освобождением, то ли репрессиями.
Без подсказки ясно чем. Сначала во все инстанции полетел многостраничный донос коллег-литераторов, «хорошо известных с плохой стороны», как сказал бы Довлатов. В нем извещалось об «идеологической диверсии». Дескать, в Доме писателя «около трехсот граждан еврейского происхождения» собрались на «хорошо подготовленный сионистский художественный митинг». Ну и как было властям тут же не «принять свои меры»? Участники вечера оказались на годы отстраненными от публикации их оригинальных сочинений. От издательств Довлатов с Бродским были отлучены «навсегда».
C художественной выразительностью, а потому внятно, ареал их общения очерчен в эссе Бродского: «полагаю, три четверти адресов и телефонных номеров в записных книжках у нас совпадали». Это о жизни в Ленинграде. О пребывании за океаном подобного сказать уже было нельзя: «В Новом Свете, при всех наших взаимных усилиях, совпадала в лучшем случае одна десятая». Если Довлатов занял позицию «русского писателя в Нью-Йорке», то Бродский стал апостолом «всемирной отзывчивости» и значительную часть жизни посвятил расширению зоны своего культурного обитания.
За океаном приятельское «сердечное ты», обмолвясь, они заменили на международное «пустое вы». Из этого не следует, что в отношениях возник холодок. Скорее, наоборот. Срывов в общении не случалось, оно утвердилось как ровное и дружеское. За глаза Бродский говорил и писал о Довлатове как о «Сереже». Со стороны Довлатова «вы» — это знак пиетета, абсолютного признания заслуг. Бродский своим «вы» устанавливал должный уровень взаимопонимания, его ранг: писатель встретился с писателем, личность с личностью. Времена и дух богемного равенства, когда литературная жизнь приравнивалась к застолью, канули.
Но эти же времена их и соединяли, в том числе эмигрантской общей памятью о юности: «И дрова, грохотавшие в гулких дворах сырого // города, мерзнущего у моря, // меня согревают еще и сегодня», — прорывается у Бродского сквозь всю его интертекстуальную поэтику «Эклоги 4-й». Что ж говорить о Довлатове, сюжеты которого сплошь вырастают из тактильной памяти о людях проходных дворов и коммуналок у Пяти углов, о завсегдатаях пивных ларьков и рюмочных на Моховой… «Какими бы разными мы ни были, все равно остаются: Ленинград, мокрый снег и прошлое, которого не вернуть… Я думаю, все мы плачем по ночам…»
Кроме того, у обоих была крепка память о «тех, кто прожил жизнь впотьмах // и не оставил по себе бумаг», как сказано в том же «Шествии».
Это существенно, но не исчерпывающе. «Дело в том, — написал Бродский в посвященном памяти Довлатова эссе, — что
Сережа принадлежал к поколению, которое восприняло идею индивидуализма и принцип автономности человеческого существования более всерьез, чем это было сделано кем-либо и где-либо.
Я говорю об этом со знанием дела, ибо имею честь — великую и грустную честь — к этому поколению принадлежать». Далее следует фраза, видимым образом это утверждение опровергающая: «Нигде идея эта не была выражена более полно и внятно, чем в литературе американской, начиная с Мелвилла и Уитмена и кончая Фолкнером и Фростом».
И в этом тоже нет окончательной правды. Она в ином, в том, что оба они выявили ее в себе сами, индивидуально, почувствовали собственными ребрами, выносили в сердце. «Идея индивидуализма, человека самого по себе, на отшибе и в чистом виде, — пишет Бродский, — была нашей собственной. Возможность физического ее существования была ничтожной, если не отсутствовала вообще».
Чувства, обуревавшие обоих, были много значительнее стремления к социальному благополучию, тем паче желания встать под чьи бы то ни было политические знамена. В конфликте творческой личности с обществом, полагал и говорил Довлатов, он всегда встанет на сторону личности, какой бы она ни была. Экзистенциальная тяга к независимости, к «самостоянью человека» — при всем тотальном демократизме Довлатова и вызывающей имперскости Бродского — роднила обоих крепче любого коллективизма. Проблема человеческой речи, «авторского голоса» волновала и поэта Иосифа Бродского, и прозаика Сергея Довлатова сильнее любых мировых катаклизмов.
Андрей Арьев — специально для «Новой»
Письма С. Довлатова хранятся в архиве И. Бродского в библиотеке Йельского университета. Полностью письма Довлатова Бродскому, открытка Бродского Довлатову и комментарии к ним будут опубликованы в сентябрьском номере «Звезды» (2019, № 9).
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68