
— Твой новый роман называется «Хохот». Ты говоришь примерно так: «Бог улыбается или усмехается, а дьявол хохочет». Значит ли это, что все, способствующее хохоту —начиная с торта «Элвис Пресли в ванне» и до абсурдизма Даниила Хармса, —дьявольские миазмы?
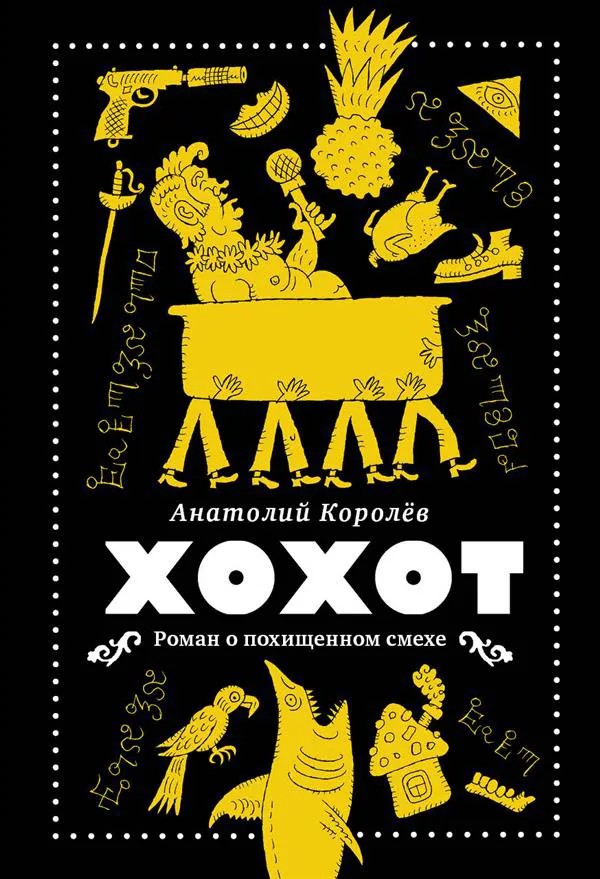
— Нет, конечно, я сам начал роман с желания посмеяться… над чем? Ну, например, над странностями современного искусства, когда чучело акулы в аквариуме с формалином продается за миллионы долларов. Речь о работе английского художника Дамиана Херста. Наши мастера, конечно, скромнее, укусы голого человека на цепи (Олег Кулик в роли собаки) на фоне манифестаций Херста почти незаметны… Короче, я в момент старта был сосредоточен на желании, скорее, с юмором пройтись по принципам современного искусства, и мой смех — уверен — не был дьявольским раскатом, но… Я неожиданно стал вязнуть в работе и постепенно угодил в ту самую ловушку мироздания, о которой предупреждал еще Ницше: «Если ты начнешь присматриваться к бездне, бездна начнет всматриваться в тебя».
Те, кто вздумает раскрыть мою книгу, должны хотя бы знать, что в итоге моя прогулка растянулась на 19 лет! Из которых я семь лет прожил без чувства юмора… Хохот, следуя формуле Ницше, накостылял автору от души.
— Хохот ты, как мне показалось, причисляешь к смертному греху, чуть ли не в пандан с унынием. Это из-за того, что он (или то, что становится его причиной) усугубляет абсурд, обессмысливает все (и так-то мы никак не найдем смысл жизни)?
— У меня до сих пор нет ответа. В поисках формулы бытия я уже давно следую за каббалистической системой сфирот, на мой взгляд, там, там истина и понимание всех причин. В двух словах в системе сфирот (она же древо жизни) нет сфиры «смех», хотя есть «красота», «суд», «корона», «мудрость»… Но как же так? Если система всеохватна, она не может не включать в себя смех? Смех тоже тело человеческой жизни… Что ж, по ходу написания романа и всех неприятностей, которые я получил, ответ был найден: смех — это сфира суда…
— Ты то к Людовику в королевский двор отправляешь читателя, то к Оскару Уайльду, то в свою Пермь к больной маме. Ты хочешь показать абсурдность человеческой жизни во всех временах и весях? И даже надежды никакой не оставляешь?
— Нет, нет… Перелеты в пространстве и времени всего лишь литературный прием, возможность получить ответ на вопрос, в чем смысл смеха, у знатока. Согласись, что Уайльд или Хармс как раз и могут ответить путешественнику во времени. Другое дело, что мне, автору, и моему герою/маске, гению, сторожу смеха Тетелю, от этих ответов не становится легче.
— А может быть, ты, понимая нынешний путь России как движение поперек прогресса к мракобесию, пытаешься найти исторические аналогии и в этом черпаешь оптимизм (ну ведь они-то как-то вылезли из абсурда) или, наоборот, утверждаешь правомерность дьявольского хохота?
— Я пытался обозначить наше особое сатирическое безрассудное своеобразие… Например, побыть в мундире Носа, который сбежал с лица майора Ковалева… но вот ведь какая штука: что есть этот сбежавший гоголевский Нос? Увы, это сама смерть, кутаться в эти пелена — не шутка…
— Твои вполне реалистичные дневниковые, связанные с Пермью записи как будто оттеняют фантасмагорию. Но они еще «больнее» свидетельствуют о драме человеческой жизни. Неужели нет никакого света?
— М-да, роман о смехе вышел мрачноватым, согласен, а мои грезы о гениях света, которые наведут порядок в мироздании, жидковаты, но читатель, я знаю, смеется, читая, и в этом здоровом смехе я вижу надежду.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
— А что у нас с постмодернизмом? Он вообще был или привиделся? А вдруг еще есть?
— Увы, увы, Олег, наш постмодернизм пережил фазу старта, но так и остался в позе стартующего бегуна… И последствий у такой позы нет никаких, мы не добежали/не дожили/не дотянули до финала.
— В какую сторону, по твоему мнению, будет двигаться современная проза —к реализму, может быть, даже к документалистике, или к сюру, абсурду, фэнтези?
— Я постоянно ломаю голову над этим вопросом: куда ж нам плыть?
И склоняюсь к тому, что наиболее убедительными примерами развития современной литературы стали документальные вещи, но! Написанные осознанно вне и в пику ходульной беллетристике продаж. Мне трудно подыскать примеры в нашей прозе, но в европейской — пожалуйста. Вот повесть бельгийки Амели Нотомб «Токийская невеста» (2007) о том, как она, дочь дипломата, попыталась однажды войти в мир японского бизнеса и оказалась в итоге в мужском туалете своей преуспевающей фирмы в Токио, где отвечала за раздачу туалетной бумаги; и роман француза Фредерика Бегбедера «Уна & Сэлинджер» (2014) о драматическом нью-йоркском романе двух молодых звезд — 15-летней дочери Юджина О’Нила Уны и начинающего литератора Джерома Сэлинджера 21 года… незадолго до того, как он добровольцем ушел на войну, а Уна стала женой Чарли Чаплина…
— Ну вот, заговорили о молодых (хоть это и Сэлинджер). Ты много лет ведешь семинар прозы в Литинституте. Есть ли талантливые молодые и что они пишут? Как проявляется в их прозе гражданская позиция, или они совсем аполитичны?
— Вот уже десять лет как я веду семинар прозы в Лите. Через мои руки прошло три мастерских (третья как раз оканчивает, вышла на дипломы), а это примерно 35–40 человек. Первый набор писал фэнтези, вторая мастерская фэнтези презирала и играла в мягкую эротику (речь о мейнстриме), третья мастерская поступала с уклоном в сатиру, причем в политическую, но за пять лет обучения только один Александр Лебедев пишет сегодня нелицеприятные блестящие карикатуры из нашей жизни. Гражданская позиция молодых писателей, пожалуй, держится в тени эстетического вызова, а в содержании проявляется очень сдержанно. Самые яркие ищут себя в разных сферах, но обычно вне литературы… Авангардное кино, сочинение электронных игр, техномузыка, театральная режиссура… Единственная книга, написанная моей выпускницей и изданная неплохим тиражом (тощие авторские сборники за свой счет — не в счет), это путеводитель по московским кладбищам Татьяны Жестковой.
Какой же я делаю вывод как мастер?
Я направил всю творческую энергию внутри своей мастерской на один аспект — на развитие креативности.
— Твоя линия с фольклорным черным юмором в «Хохоте» оттеняет и без того мрачную картину. Для чего она? Призвать к себе в союзники глас народа? Показать, что этот глас отнюдь не глас божий? Как ты к религии относишься?
— …к религии отношусь осторожно, а к нашему народу, ей-ей, боязливо…
— Я сам принимал участие в пожирании кондитерского Ленина в галерее «Дар». Скажу: впечатление у меня было невеселое. Но ведь откусил же я кусок этого жуткого торта…
— Ах, я не знал, что ты принимал участие в той легендарной акции, знал бы, сделал тебя героем этой главы! Но согласись, что вторая линия моего романа — бесконечная жратва — есть естественное продолжение твоего расстроенного аппетита, все мои герои, как и ты, давятся этими кусками «жуткого торта».
— Ну и слава богу, что я не стал одним из персонажей. Спасибо. И вообще —спасибо: и за «Эрон», который я высоко ценю, и за «Голову Гоголя», и за то, что периодически взрываешь наше прозаическое пространство.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68