
Европу будоражит: Британия заявила о выходе из Европейского союза, население острова проголосовало за свою инакость. Именно сейчас, на пике конфликта, когда развод должен быть узаконен, — выставка художников лондонской школы добралась до Москвы. Лет тридцать назад в России спорили о том, является ли она частью Европы (со временем энтузиазм угас); сегодня стоит другой вопрос: Британия — Европа или нет? Картины лондонской школы как объясняют нам сегодняшний день?
Скажут, что культура не имеет отношения к политике и живет своей жизнью. Так любят говорить директора музеев тоталитарных государств и художники, пользующиеся поддержкой тиранов. Отчасти они правы: культура не тождественна политике. Но вовсе уклониться от социальной жизни культура не может.
Крупнейший художник Англии Ганс Гольбейн — был немцем по происхождению, в Лондоне осел благодаря протекции канцлера и хранителя печати Томаса Мора (гуманистического мыслителя по совместительству). Томас Мор представил художника королю Генриху Восьмому, и Гольбейн сделался придворным художником. Впоследствии Генрих Восьмой казнил Томаса Мора, благодетеля Ганса Гольбейна, — но это не помешало придворному мастеру писать парадные портреты монарха. История — дисциплина безжалостная: нам не хочется знать, но, однако, Веласкес увековечил изгнание морисков из Испании, Боттичелли изобразил повешенных заговорщиков Пацци, а Гольбейн живописал самоуверенного Генриха сразу после того, как монарх милосердно заменил сдирание кожи и четвертование — всего лишь отсечением головы Томаса Мора.
Художник писал бессердечного монарха во славе, широко расставившего ноги, попирающего пространство. Он короля таким образом осуждал? Это реализм такой?
Все вышесказанное не призвано очернить образ художника — но и воспринимать Гольбейна вне данного контекста будет неправильно. Вы можете сказать, что искусство вечно, а политика — преходяща. Расскажите об этом Томасу Мору и тысячам сожженных гуманистов: для них и для миллионов, уничтоженных в двадцатом веке, политика стала вопиющей реальностью. И если искусство учит чему-то, рассказывает о чем-то, то наивно отрицать, что политика сплелась с искусством, — а уж зритель волен решать, какой нравственный урок следует извлечь из произведения искусства, да и есть ли в искусстве нравственные уроки вообще.
Лондонская школа ХХ века — это прежде всего школа портрета: перед зрителями в музее на Волхонке — портрет английского общества. Сам Люсьен Фрейд любил повторять, что все его картины — это огромный групповой портрет. Ни Люсьен Фрейд, ни Фрэнсис Бэкон не делали различий, писали все страты общества — от королевской семьи до социальных работников — с въедливым любопытством.
Побывав на выставке, вы сможете разглядеть лондонских горожан: это люди, пережившие бомбежки Лондона, они и их потомки сидят в пабах, едят камберлендские сосиски, не отказались от фута и фунта, заявили о своем желании строить вместе с Европой социальное государство, а спустя пару десятков лет одумались — и на весь мир громко сказали: мы другие, на Европу не похожи. Хотим жить отдельно — а вы разбирайтесь со своими беженцами и перегруженной обещаниями демократией.

Трудно избежать разговоров о политике в связи с лондонской школой еще и потому, что практически все художники, представляющие эту школу, — эмигранты, попавшие в Лондон благодаря политическим коллизиям. Художникам свойственно путешествовать, чаще всего живописцы отправлялись в Италию созерцать прекрасное, а в Париж десятых годов прошлого века художники стремились потому, что там «даже консьерж разбирается в живописи», говоря словами Шагала, — но в Лондон бежали потому, что Европа была перепахана Первой мировой и ждала новой бойни. Не затем, чтобы учиться рисованию (в Англии рисованию сроду не учились, туда приезжали торговать умением, как Гольбейн или Ван Дейк), но ехали потому, что на острове правил парламент и демократический закон.
Люсьен Фрейд, внук Зигмунда Фрейда, австрийский еврей, рожденный в Берлине; Франк Ауэрбах, берлинский еврей; Леон Коссоф еврей, чьи родители приехали из России; Рональд Китай с еврейско-венгерскими корнями — все они представляют тех самых беженцев, коих сегодняшняя Британия не особенно охотно принимает. То есть некоторых беженцев в Британии сегодня принимают охотно, но это беглые финансисты, таких в Лондоне много, как ни в одной другой стране мира: последние тридцать лет Лондон работал мировой финансовой прачечной — но вот ординарных прачек и белошвеек из нищих стран в гости теперь не зовут.
Одна из аберраций истории Лондона и его обитателей состоит в том, что сегодняшние финансово обеспеченные «беженцы» приобретают полотна тех, нищих беженцев времен Второй мировой — и по астрономическим ценам.
Беженцы, чьи полотна сегодня висят в ГМИИ, приехали в чужой город без денег и добились признания не сразу; их картины не совпадали с модой. Лондонская школа — это и не школа вовсе; общих приемов у Коссофа, Бэкона и Фрейда нет; они объединились потому, что хотели рисовать людей, «человеческую глину», как выразился один из них, Рональд Китай, используя строку Одена. А рисовать портреты было немодно. До войны — это было модно; а после Второй мировой — уже нет.
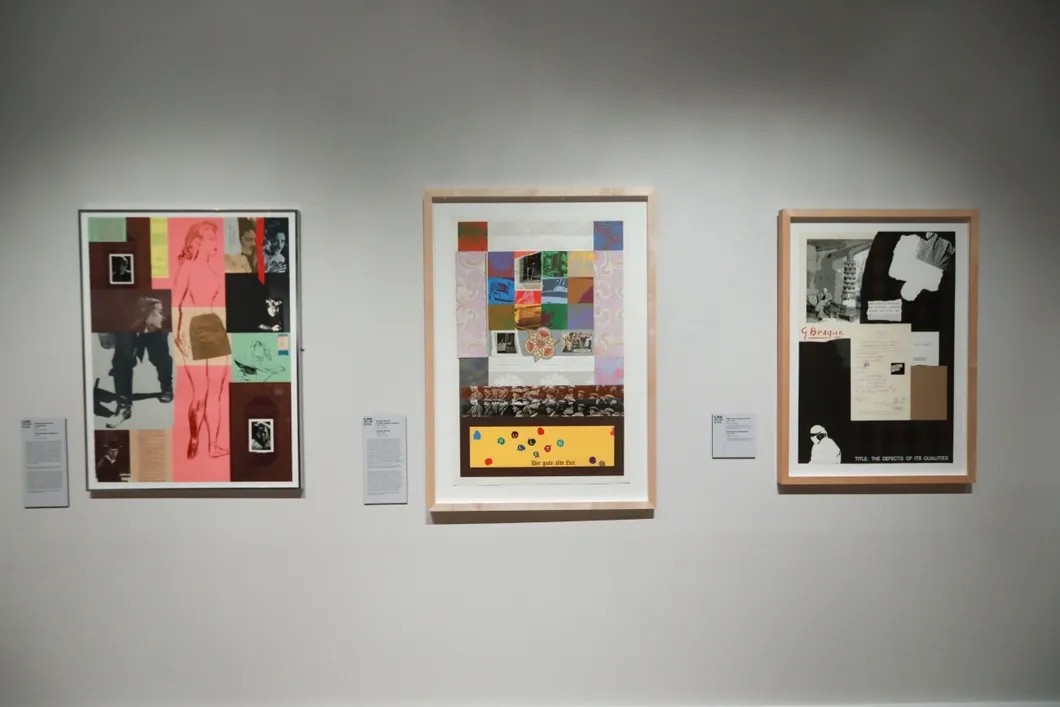
Человеческая глина была не в чести. Ее намесили столько за время войны, что пресытились. В послевоенной Европе умами завладела абстрактная живопись — альтернативой имперским колоссам фашистских режимов стало беспредметное искусство и поп-арт. Фигуративная живопись скомпрометирована заказами диктаторов, и, казалось, навсегда. Персонаж в живописи — это всегда герой, а европейский интеллектуал в героизме изверился.
Героев в привычном понимании этого слова лондонская школа не изображает. Герой — это тот, кто берет на себя ответственность за многих, желает (возможно, обманывает, но это выяснится потом) защитить других. Герои лондонских картин не думают ни о ком, кроме себя, — и причин для тревоги о себе у них хватает.
Измочаленные жизнью, изглоданные страстью, удрученные опытом — пред нами те, кого описывали Ивлин Во, Гарольд Пинтер, Олдингтон, Пристли. Это убедительное свидетельство бренности человека; это портреты смертных в самом буквальном значении слова, но и в теологическом также: здесь нет веры в бессмертие. Сгинут все, и уйдут в никуда. Люсьен Фрейд любит рисовать спящих или лежащих в постели; своего рода репетиция вечного сна. Даже по молодым лицам видно, чего стоила жизнь: по дряблой коже, жировым складкам, теням под глазами, несообразностям телосложения — можно изучать пороки и страсти. Лишь одна страсть в этих персонажах отсутствует: ни в ком из них нет солидарности с другим. В огромной портретной галерее общества нет места состраданию и тревоге о чужой судьбе; каждый встречает свою участь в одиночестве.

Для общества, голосующего за выход из Европы на том основании, что личные проблемы важнее чужих, это, пожалуй, точный диагноз; можно воспринимать картины как зеркало политики. Но для гуманистического искусства Европы подобные картины — необычны. Еще более странно то, что эти фигуры — перекрученные персонажи Бэкона и выпотрошенные страстью персонажи Фрейда — портреты послевоенного поколения, это портрет победившего общества, общества победителей.
Трудно удержаться от сравнения лондонской послевоенной школы с парижской школой, возникшей до Первой мировой. Герои парижских холстов (Пикассо, Сутина, Модильяни, Шагала) — они были проигравшими. Клоуны и любители абсента тянулись друг к другу, чтобы спрятаться от навалившейся беды; они стараются прикрыть друг друга, кто как может: девочка прижимает к себе голубку, старый еврей — хрупкого мальчика, семья арлекина сжалась в отчаянном объятии.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
Если искать общее слово для определения искусства, того, парижского предвоенного собрания беженцев, — то этим словом будет «милосердие». Слабый защищает слабейшего, влюбленный оберегает возлюбленную — они находят убежище друг в друге, они обретают бессмертие в любви.
Лондонский персонаж не прячется вовсе, он развалился в центре пространства; он, подобно Генриху Восьмому, попирает пространство; он возлежит поперек пространства. Фрэнсис Бэкон любит выстраивать вокруг своего героя подобие прозрачной клетки — может показаться, что герой загнан в вольер; но нет — эта деталь лишь подчеркивает хрупкость перспективы; перед нами властелин маленького мирка, он распирает и корежит перспективу. Правда, победителю победа над миром далась дорого: ему очевидным образом нехорошо. Ему нехорошо в одиночестве, его крутят страсти, но и рядом с близкими ему не лучше.
«Все люди — враги», написал однажды Олдингтон, эту жестокую мораль его герои вынесли из мировой бойни — и персонажи лондонской школы доказывают справедливость правила.
«За грех, совершенный двумя, каждый ответит поврозь» — строчка жестокого английского поэта Киплинга как нельзя лучше иллюстрирует парные портреты Люсьена Фрейда — нагие любовники, опустошенные страстью, лежат рядом, и нет ничего, что их объединяет; половой акт завершен, иной близости не предполагалось.
Индивидуализм, одиночество, гордость или равномерное бессердечие — но персонажи лондонской школы не обременяют себя вниманием к ближнему. Их взгляды не встречаются, руки не соприкасаются, они не улыбаются друг другу. Они не прячутся, подобно героям «потерянного поколения», — поколению победителей прятаться не от кого, они победили всех. Но есть бренность человеческого бытия, конечность жизни, а от этого прячься или нет — не поможет.

В романе «1984» Оруэлл описывает предел порабощения, которого добивается государственная машина, — это когда человек отказывается от сочувствия любимому, когда готов предать свою половину, лишь бы не тронули его. Можно ли закрыть любимого от небытия? Герой Рембрандта и Пикассо считает, что это возможно и должно. «Пусть это сделают с Джулией, а не со мной!» — кричит раздавленный Уинстон Смит — и этот крик слышится из каждого искаженного страхом или страстью портрета Люсьена Фрейда и Фрэнсиса Бэкона.
Но как же мы разрешили сделать с собой такое? Разве для этого мы победили фашизм и сталинизм? Разве ради вот этого сегодняшнего бессилия и страха отказались от доктрины коммунизма — лживой и лицемерной, но объединяющей людей? Разве мы затем провозгласили идеалом Открытое общество, чтобы ставить на квартиры железные двери, разве затем показательно боролись с привилегиями, чтобы нашими сенаторами стали миллиардеры?
Как так получилось, что после победы над фашизмом Европа решила быть единой и демократической, а сегодня она рвется на части и каждый ищет свою выгоду и свою национальную правду?
Где-то, наверное, произошла ошибка — вот и голые люди Люсьена Фрейда, напоминающие освежеванные туши в лавках мясников, они тоже недоумевают: человек вроде бы — венец творения, а посмотришь на жировые отложения и заглянешь в глаза, так ведь и не скажешь.
Оден пишет о том, что «человеческая глина» — в наброске Гойи или Домье, а художник Рональд Китай сделал строчку Одена о «человеческой глине» манифестом лондонской школы — ему дороже яблок Сезанна; но беда в том, что Оден не сумел увидеть картин Сезанна. Натюрморты с яблоками написаны о единении, смысл яблок в солидарности всего сущего.
В том-то и дело, что яблоки Сезанна и картофелины Ван Гога так же плотно приникают друг другу, как семья на баррикаде Домье и люди в толпе Гойи. Европейское гуманистическое искусство — оно существует ради единения людей и пространства.
«Жизнь ведь тоже только миг, только растворенье нас самих во всех других, как бы им в даренье» — про это же говорят и яблоки Сезанна, проникающие друг в друга, и клубящаяся линия Домье, и пирамида неистовых голов Гойи, и стихи Пастернака. Вместе — мы выстоим перед лицом небытия. Но за железными дверьми и в яхтенных каютах — пропадем. И дикое, перекрученное одиночество лондонских персонажей, раскупленных на «Сотби» богатыми беженцами, кричит: пропали.

Новая английская идея — размежеваться с Европой и ее проблемами — весьма старая идея, ее автор — тот самый гольбейновский Генрих Восьмой. Любопытно, что король начинал как противник национализма и протестантизма (потому и сделал своим наперсником католика и гуманиста Мора), но когда это перестало быть выгодно — пересмотрел взгляды. Сперва король хотел просто избежать религиозных войн, потрясавших Европу; но быстро понял, что изоляция от европейских проблем дает неограниченную власть над подданными. Те гражданские, политические и личные свободы и ценности, во имя которых Европа сражалась с фашизмом и сталинизмом, воплощены в Ренессансе и Просвещении — используя слова «свобода» и «право», невозможно это игнорировать; но Ренессанс и Просвещение манифестировали «право» и «свободу» только и обязательно в связи с другим, в зависимости от другого, в ответственности за другого. Невозможно быть свободным в одиночку.
Генрих Восьмой, чтобы порвать с ренессансной (и католической) доктриной, должен был казнить былого друга — и так добился индивидуальной судьбы королевства; ради обретения свободы он избавился от того, кто воплощал свободу и закон. Брексит XVI века и Брексит XXI века во многом похожи: кажется, что достоинство «свободного» человека в том, чтобы быть независимым;
на деле полная независимость от обязательств — это привилегия раба: он действует по принуждению и обязательств не имеет. Свобода определяется способностью защищать другого.
Томас Мор обличал власть золота (в «Утопии» преступники приговорены к тому, чтобы носить золотые кандалы), но расскажите это сегодняшнему Лондону и новым финансовым «беженцам».
Ах, до того ли нам на выставке! Мы смотрим на вывернутые наизнанку образы Бэкона и на заспанные лица персонажей Фрейда, восторгаемся безжалостным анализом человеческой природы и спрашиваем себя: что будет со всеми нами?
Будет ли война? Распадется ли Европа? Снимут ли санкции? Сможет ли Британия вернуться в лоно Европы — и сумеют ли сообща люди преодолеть политический кризис? Сумеет ли солидарность христианских демократий противостоять коррупции и новому феодализму; возможно ли, чтобы финансовый капитализм пробудил в человечестве такие моральные ресурсы, что история достигнет сияющей точки самопознания (как о том мечтал Фукияма?). Чтобы ответить на эти вопросы, представьте, как персонажи Люсьена Фрейда прильнули друг к другу — точно влюбленные Шагала, а герой Фрэнсиса Бэкона встал на защиту более слабого — по примеру хрупкого арлекина Пикассо.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
