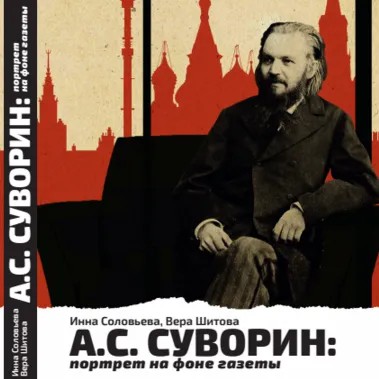
«Тема интересна и до крайности актуальна, даже злободневна: как осуществляется манипулирование сознанием разобщенного, распыленного общества; как выращивается и насаждается вторичная, искусственная национальная нетерпимость, уже не связанная ни с какими патриархальными навыками и предрассудками, но, напротив, компенсирующая у представителя атомизированной массы полное отсутствие чего бы то ни было «органического». Так Сергей Аверинцев в середине 1980-х начинал отзыв на книгу, написанную в середине 1960-х и вышедшую в полном виде только сейчас. «А. С. Суворин: портрет на фоне газеты» (М, Навона, 2017).
Ее герой — издатель «Нового Времени», одной из самых влиятельных газет конца ХIХ — начала ХХ века, «организатор, идеолог и гений обыденного сознания». Ни актуальности, ни интереса книга, написанная крупнейшим историком русской культуры И. Н. Соловьевой в соавторстве с В. В. Шитовой, за полвека не потеряла, а количество «последователей» Суворина за эти годы только прибавилось. Инна Соловьева, отметившая в этом году 90-летие, остается мощным оппонентом суворинского манипулирования. Обычно ее называют историком театра и культуры. Но дарование Соловьевой связано с поэзией и философией жизни в той же степени, что и с историей. О том и речь.
Я думал начать с того, как теплым майским вечером 1987 года оказался на западе Москвы в квартире Инны Натановны. Мне было 17 лет, я готовился поступать в медицинский, к которому душа не лежала, — лежала она к театру. При этом предполагалось, что именно от поступления в театральный институт Инна Натановна, ученый с безупречной репутацией, и должна была меня отговорить из-за доброго отношения к моему отцу, мечтавшему, чтобы я занимался «делом».
Как она меня «отговаривала», я не помню. Зато помню, как мы сидели на полу в ее квартире, доставали книги с полок и говорили о Пушкине. Я играл Дон Гуана в школьном спектакле, и Соловьева рассказывала мне о «Маленьких трагедиях», наизусть читая Пушкина большими кусками. Скидки на возраст не делала, говорила с той мерой серьезности, которая определялась прежде всего ее уважением и любовью к Пушкину. Больше всего врезалась в память то, как она описывала сцену, в которой Лаура говорит Дон Карлосу:
Приди — открой балкон. Как небо тихо; Недвижим теплый воздух — ночь лимоном И лавром пахнет, яркая луна Блестит на синеве густой и темной — И сторожа кричат протяжно: Ясно!..
Пушкин, который никогда не был ни в Париже, ни в Мадриде, теплых испанских ночей не знал, заканчивал «Каменного гостя» осенью 1830 года в Болдино. Соловьева поражалась силе поэтического воображения, переносившего его туда, где «ночь лимоном и лавром пахнет». После трех-четырех часов разговора сомнений больше не было. Я спокойно объявил родителям, что собираюсь поступать на театроведческий факультет — к Соловьевой. Учеба на ее курсе следующие четыре года определили судьбу. Дружба и общение с ней продолжают определять жизнь, чем бы я ни занимался.
Занимаясь журналистикой, наблюдая действенность суворинских методов обработки сознания во время крымских событий и войны в Украине, каждый раз сверяю себя с тем, что заложила Соловьева.
Она учила самому понятию истории как реальности жизни и уважению к этой реальности. Одновременно учила фиксировать и точно описывать спектакль — реальность мимолетную. В качестве упражнений давала задание — смотреть архитектуру Москвы, описывать по памяти и потом проверять себя. Тут же не наврешь: колонн столько, сколько есть, их ордер определяется однозначно, дату постройки не спутать (хотя я путал). Мы гуляли с ней по Москве — расселяли персонажей русских пьес в домах, где они могли бы жить.
Все то, чем Соловьева с нами занималась, базировалось на твердой вере: реальность жизни безусловна и неприкосновенна. Она считает, что неточность в рецензии или в репортаже нельзя прикрывать фразой «а я вижу иначе». То, что происходит на сцене, как и то, что происходит в жизни, может нравиться или нет, вызывать протест или согласие, возбуждать те ассоциации или иные, но описывать ты должен точно.
Точность ее собственных наблюдений и описаний поражает. При этом точность не ограничивается фактами. Мало кто обладает той независимостью и силой мысли, что Соловьева. И мало у кого мысль настолько опирается на реальное знание (или знание реальности). Два этих качества связаны между собой — и связаны с датой рождения.
Соловьева родилась в 1927 году — накануне «Великого перелома» русской жизни.
При этом органика ее собственной жизни слому не поддалась, оставаясь крепко защищенной, прежде всего непосредственностью восприятий и все тем же уважением к реальности, какой бы страшной она не была. Страха она лишена напрочь и от реальности никогда не отгораживалась. Введя когда-то понятие «родина, время», Соловьева своей родине, времени, месту всегда была верна.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
В русском языке нет различия между «house» и «home». Она живет в доме советской постройки, но ее дом живет по законам, ею самой раз и навсегда установленным. Соловьева самый «не советский» человек из всех, кого я знаю, — не «антисоветский», но именно не советский. Мороку ни вчерашнему, ни сегодняшнему, она не поддается.
Идеология в нее не проникала и не проникает не только потому, что это место занято другой верой и другой культурой, но и потому, что Соловьева доверяла своему зрению и слуху.
Если видела мать подруги с отбитыми в тюрьме легкими или крестьянских детей, просивших хлеба в городе, то мотивировок не искала и подчинялась собственным ощущениям, а не идее мировой революции.
Сбить ее невозможно.
Это же восприятие реальности дает силу ее историческим работам. Читая книги Соловьевой, поражаешься способности визуализировать и воспроизводить историческую эпоху через слово, образ, ритм фразы. Мысль рождается из точного описания, из фактов. Ее книги и статьи, безусловно, художественные и поэтические, но и исторически выверенные. Вопрос в том, как взаимодействуют история и фантазия, память и воображение.
Памяти нельзя доверять. Мемуары являются историческим свидетельством того времени, в котором написаны, в большей мере, чем того, о котором написаны. Любое запоминание подразумевает искажение, мифологизацию. Но механизм работает и в обратном направлении. Для того чтобы восстановить картину прошлого, необходимо не только знание дат, имен, событий (соловьевская память в этом смысле безотказна: «Ну почему я это помню?» — она часто говорит это с искренним удивлением ), но и фантазия, и воображение — буквально вхождение в образ другой жизни, другой эпохи.
В одном из набросков предисловия к «Войне и миру» Толстой сформулировал мысль, казалось бы, парадоксальную: «Я боялся, что необходимость описывать значительных лиц 12-го года заставит меня руководиться историческими документами, а не истиной». Описание «истины», то есть того, что подлинно и точно, требовало художественного воображения. Таким воображением обладали и те, кто создал Художественный театр, — главный предмет исследования Соловьевой. И сам театр, и его исследователь с Толстым связаны корнями.
Соловьева, кажется, первая начала изучать режиссерские экземпляры Станиславского как самостоятельные тексты, воспроизводящие мотивы и психологию эпохи и персонажей, в пьесе описанных. То, что эта реальность существует, не вызывало сомнений. Соловьевские работы по истории Художественного театра воссоздают не только спектакли, но и жизнь, и ход творческой мысли их авторов, сам акт творения. Эффект присутствия возникает и при чтении книги о Суворине, написанной изначально по заказу «Нового Мира» Твардовского, и одновременно с занятиями режиссерскими экземплярами Станиславского.
Книга воссоздает приемы и мотивы не только издателя, но и подписчика — потребителя газеты, ее идей (или скорее безыдейности) и предметов, в ней рекламируемых. Соловьева описывает квартиру в двухэтажном петербургском доме на Разъезжей, и — главное — сознание ее жильца, полагавшего, что «вечные» вопросы, мучающие, к примеру, хозяина Ясной Поляны, — с барского жиру. Суворинская газета навязывала выбор между «революционным кружком» и «домом на Разъезжей» так, как будто нету рядом «Трех Сестер» и Тузенбаха с его «Какие красивые деревья, и, в сущности, какая должна быть рядом с ними красивая жизнь».
Воспевая «здравый рассудок» и наживание добра, газета настойчиво предлагала национализм — тоже в качестве продукта потребления. Регулярно писала о «турецких зверствах», призывая страну к спасению славян на Балканах. «Богатая, благословенная Богом страна, доведенная рабством до бессилия, до глухого отчаяния, молит Россию об избавлении от тяжелого ига». Грех не помочь, и ведь себе не в убыток: страна-то богатая, Богом благословенная…» Национализм и антисемитизм прививаются потихоньку, без ярости, через повторения,
через соседство заметок о детских трупиках или живодерстве, о том, как русскому старику-священнику не подали чаю в варшавском буфете, или как иностранцы женятся на русских женщинах, чтобы продать их в гарем.
«Газета, изначально воспитывавшая здравомыслие, совершала тихую ежедневную подмену: здравому смыслу не давали ни в чем разобраться, приучали не к доказательности, а к авторитету напечатанного». Что произошло в момент соприкосновения «безыдейности» и жизни вне истории с идеей и историей, Суворин, умерший в 1912 году, не увидел. Последствия испытали на себе авторы книги о Суворине.
Готовясь писать ее, авторы прочли все подшивки суворинской газеты от первого номера 29 февраля 1876 года до последнего, отпечатанного до смерти Суворина в 1912 году. «Читать оказалось захватывающе интересно. К тому, что происходило за стенами библиотеки, Суворин имел отношение живое, даже слишком живое», — вспоминает Соловьева. Авторы историю столетней давности к современности не притягивали. Притягивала жизнь. Соловьева на это сближение отзывалась, улавливала и передавала исторические токи. Продолжает их улавливать и передавать и сегодня, обладая какой-то суперчуткостью и непосредственностью восприятия. Ее книги лишены политики и наполнены ощущением времени. Читать книгу сегодня захватывающе интересно», и к «происходящему за стенами библиотеки» Суворин тоже имеет отношение. Самое важное в даре Соловьевой, быть может, это способность не поддаваться мороку — ни вчерашнему, ни сегодняшнему. Она когда-то сформулировала мысль о том, что искусство отражает жизнь по принципу отражения удара, а не копирования. Соловьева и сама противостоит Суворину и реальности, им навеянной. Ее книги и ее жизнь — противоядие, сохраняющее жизнь.
Аркадий Островский, специально для «Новой»
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
