«Долгом своей совести считаю нужным запечатлеть на бумаге свои воспоминания о пережитом». Б. Меньшагин. Из воспоминаний 1972–1974гг.
«…22 июня 1941 года наступил неизбежный, если рассуждать логически, но такой нежеланный, а потому, казалось, и невозможный в ближайшем будущем день нападения Гитлера на СССР.
Я узнал об этом из переданного по радио выступления Молотова в 12 часов дня и был ошеломлен. Подсознательно чувствовал, что постоянный, годами установившийся уклад жизни бесповоротно сломан. Но опыт 1-й Мировой войны, слова Сталина о «свином рыле в чужом огороде…» и Ворошилова о войне «малой кровью» и «на чужой территории» говорили за то, что непосредственной опасности для Смоленска попасть быстро в руки врага нет.
Поэтому в первый день войны меня главным образом заботил вопрос, как попасть в Москву, где я должен был 24 июня участвовать в начинавшемся в линейном суде Западной железной дороги деле о хищениях в дорожном санитарном отделе и его службах на станции Москва-Белорусская <…>.
С этого момента я начинал свои воспоминания, писавшиеся в камере № 7 корпуса № 2 тюрьмы № 2 города Владимира с 15 мая 1952 года по 6 июня 1955 года. Воспоминания эти были посвящены моей жизни, работе и переживаниям за время с 22 июня 1941-го и по 30 сентября 1951 года, то есть до дня моего прибытия во Владимирскую тюрьму № 2. Я тогда еще очень живо сохранял в памяти все пережитое в эти годы во всех его деталях и переложил его на бумагу, придерживаясь правила писать правду и только правду, ничего не выдумывая, не скрывая своих ошибок и заблуждений, но в то же время избегая и лицемерного осуждения себя.
Записки эти хранились у меня в камере, а в марте 1970 года их взял у меня в связи с предстоявшим освобождением начальник тюрьмы В. Ф. Завьялкин. Когда я освобождался 28 мая 1970 года, он был в отъезде, а замещавшие его сказали, что об этих записках им ничего не известно. На мой письменный запрос в июне 1970 года было сообщено, что «по заключению компетентных органов» моя рукопись возвращению не подлежит.
Поэтому я снова попытаюсь восстановить содержание тех записок, хотя, конечно, за истекшие после их окончания 17 лет некоторые детали, фамилии, даты и т.п. ушли из памяти…»
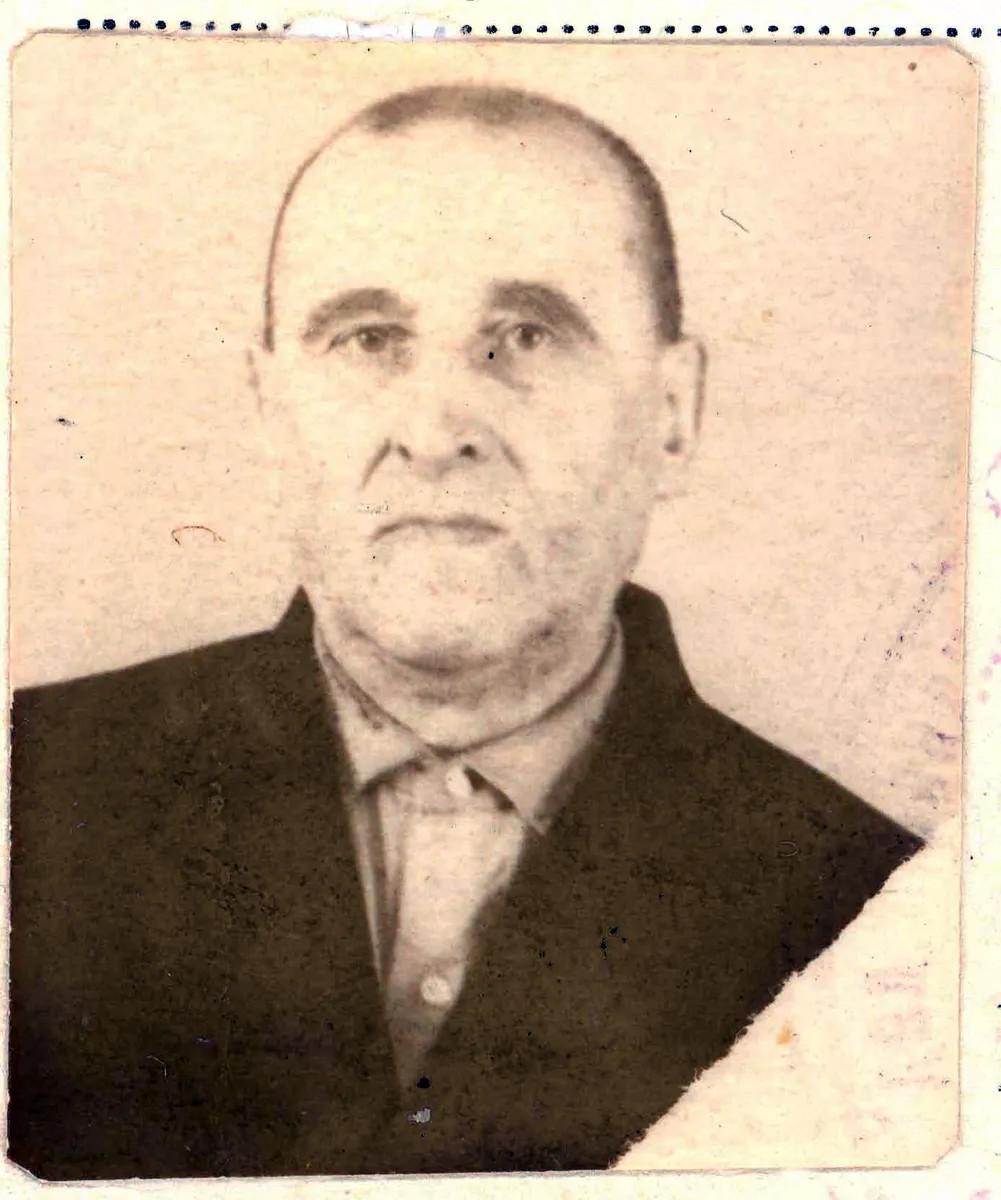
Так начинаются «Воспоминания о пережитом. 1941–1943» бывшего бургомистра оккупированных Смоленска и Бобруйска Бориса Георгиевича Меньшагина (1902–1984), написанных в начале 1970-х гг., вскорости после отбытия им своего 25-летнего срока — сначала на Лубянке, а затем во Владимирской тюрьме № 2.
Судьба Меньшагина уникальна: кому еще выпадало сменить за жизнь столько различных амплуа?! Делопроизводитель в штабах Красной армии, позже советский правозаступник (так именовались до войны адвокаты), затем немецкий бургомистр оккупированных Смоленска и Бобруйска, потом привилегированный немецкий беженец, добровольно сдавшийся советской комендатуре в Карловых Варах! И, наконец, 25-летний советский тюремный сиделец, завершивший свои дни в богадельне в Мурманской области.
Само по себе литературное наследие Бориса Меньшагина состоит всего лишь из четырех мемуарных текстов, считая и отобранный в тюрьме. Меньшагин очень болезненно переживал утрату этих воспоминаний и по выходе на свободу не слишком-то и горел заново их восстанавливать. Но московские друзья — Надежда Григорьевна Левитская и Наталья Мильевна Аничкова (а к ним присоединился и Солженицын) — уговорили его это сделать.
Всего набралось 7 таких тетрадок. Но после ареста и высылки Солженицына в 1974 году, с которым бывшая зэчка Левитская была тесно связана, держать их у себя дома стало безрассудством. Поэтому все политико-исторически значимое и ценное было роздано на хранение надежным людям, а когда стали заново все собирать, недосчитались двух из семи тетрадок…
Бесспорно, самым ценным для истории является первый мемуар, написанный в 1952–1955 гг. в тюрьме и охватывавший еще свежие тогда в памяти события между началом войны и концом следствия (30 сентября 1951 года). Записки эти у Меньшагина — за пару месяцев до выхода на волю — отобрали.
Маловероятно, что они, как многие опасаются, уничтожены: скорее всего, тихо лежат в его следственном или тюремном деле. Но где бы они ни находились, никто, кроме тюремщиков и следаков, их даже не видел. Разыскать и опубликовать их, включить в готовящуюся книгу воспоминаний Меньшагина — настоятельная необходимость и дело чести как для корпорации историков, так и для корпорации архивистов.
Но в архивах ФСБ или МВД лежат и другие материалы, напрямую связанные с Меньшагиным. Это и сами меньшагинские дела — как следственное, так и тюремное, это и «меньшагинский блокнот» — образчик послевоенного исторического фальсификата, призванного доказать, что убийцами польских военнопленных в Катыни были немцы, а не СССР.
Единственное, что сам Меньшагин подтверждал, — это то, что он был свидетелем немецких эксгумационных работ. Поддержать прямо или косвенно советскую версию — мол, они же, немцы, и расстреливали! — Меньшагин категорически отказывался. А ведь если бы сам экс-бургомистр такое заявил — как же, с точки зрения советской части Нюрнбергского трибунала, было бы славно! Но Меньшагин показания не менял, да и выпускать его, юриста по профессии, в Нюрнберге советским лжесвидетелем при американской-то охране суда было слишком рискованно: не ручной, ненадежный! Но и ликвидировать нельзя: а вдруг для чего-нибудь пригодится?
Поэтому решено было воспользоваться не им, а его именем. Выпустили вместо него к микрофону его бывшего заместителя профессора Б.В. Базилевского, 1 июля 1946 года допрошенного высоким трибуналом. Он показал, что будто бы слышал от Меньшагина в сентябре 1941 года слова о том, что все пленные поляки будут убиты немцами, а через несколько дней, что они уже убиты.
Сам Меньшагин прочел это «свидетельство» своего зама только в 1971 году. Он писал:
«Я понимаю, в каких трудных обстоятельствах был в то время Базилевский, и не осуждаю его, но сказать, что он лжет и лжет не по ошибке, а заведомо для себя, —считаю своей обязанностью перед историей. <…> Характерно, что при допросе меня ни один из следователей даже мельком не упомянул о показаниях Базилевского и к делу моему они не приложены. Это лучше всего доказывает их происхождение и цену».
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
Профессор Борис Васильевич Базилевский… В освобожденном от немецкой оккупации Дрюцке, в 12 км от Смоленска, 27 сентября 1943 года его задерживает разведотдел Управления войск НКВД по охране тыла Западного фронта. Базилевский подвергается многочасовому допросу. После чего на 7 страницах пишет что-то вроде объяснительной записки под названием «Общая картина жизни в Смоленске во время немецкой оккупации»1. 7 октября Базилевского арестовывают и открывают на него дело, 8 октября перевозят в Смоленск и 21 октября предъявляют обвинение по статье 58.1а («измена Родине»). Но его следственное дело заканчивается уже в начале 1944 года словами, просто волшебными для сталинской юстиции и бывшего вице-бургомистра: «Освободить за отсутствием состава преступления»2! Понятно, что Базилевский согласился на все условия НКВД, включая постановочные выступления — в обмен на сохранение жизни и свободы.
Из тюрьмы Базилевский перекочевал в профессора астрономии Новосибирского университета. В его университетском «Личном листке по учету кадров» есть примечательная лакунка: с 15 марта 1926 года и по 19 сентября 1943 года — и безо всякого перерыва и вице-бургомистерского совместительства! — профессор, видите ли, трудился директором обсерватории Смоленского университета Наркомпроса РСФСР. Другая запись гласит: с 24 февраля 1944 года и по 6 августа 1947 года — профессор кафедры астрономии уже Новосибирского пединститута, а по совместительству и профессор кафедры астрономии и гравиметрии Новосибирского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и геодезии3.
Кроме врак Базилевского в руках у главного советского обвинителя на Нюрнбергском процессе Руденко имелся еще один «вещдок», связанный в Меньшагиным, — обнаруженный якобы еще Комиссией Бурденко некий блокнот Меньшагина4, в котором говорилось и о расстреле польских военнопленных. Базилевский и лубянские графологи дружно подтвердили, что почерк — меньшагинский. Этим же почерком, согласно сообщению ЧГК, записано было в том числе и следующее:
«На странице 10-й, помеченной 15 августа 1941 года, значится: «Всех бежавших поляков военнопленных задерживать и доставлять в комендатуру». На странице 15-й (без даты) записано: «Ходят ли среди населения слухи о расстреле польских военнопленных в Коз. гор. (Умнову)». Из первой записи явствует, во‑первых, что 15 августа 1941 года военнопленные поляки еще находились в районе Смоленска и, во‑вторых, что они арестовывались немецкими властями. // Вторая запись свидетельствует о том, что немецкое командование, обеспокоенное возможностью проникновения слухов о совершенном им преступлении в среду гражданского населения, специально давало указания о проверке этого своего предположения. // Умнов, который упоминается в записи, был начальником русской полиции Смоленска в первые месяцы его оккупации»5.
Происхождение же «блокнота» таково. Вскоре после того, как 26 сентября 1943 года Смоленск был освобожден, в город приехала оперативно-следственная группа комиссара ГБ 3 ранга Л.Ф. Райхмана с заданием и мандатом навести должный глянец на Катынский расстрел, то есть сфальсифицировать все так, чтобы можно было потом безбоязненно валить все на немцев. Не покладая рук, она работала больше трех месяцев — с 5 октября 1943-го по 10 января 1944 года. Результатом чего стали два тома секретных материалов предварительного расследования. После чего, начиная с 12 января, в идеологический бой была введена уже официальная Комиссия ЧГК под руководством академика Н.Н. Бурденко — как операция прикрытия и как инструмент вброса «правильной» информации.
В сложном контексте советско-польских отношений следовало торопиться, и вот 22 января 1944 года непосредственно в Катыни состоялась пресс-конференция для иностранных журналистов, на которой были предъявлены оба названных козыря — и сам «астроном» Базилевский, и «блокнот Меньшагина». Вел пресс-конференцию Владимир Петрович Потемкин, нарком просвещения и член комиссии Бурденко, сделавший особый упор на «неотразимых» доказательствах немецкого следа — показаниях Базилевского и «блокноте Меньшагина». С теми же самыми враками Базилевскому доверили выступить и одним из трех свидетелей обвинения в Нюрнберге 1 июля 1946 года. С поручением он справился, но убедить мир в этой лжи ни он, ни двое других лжесвидетелей (В. И. Прозоровский и М. А. Марков), ни обвинитель Ю. В. Покровский6 не смогли.
Анатолий Юрьевич Яблоков, прокурор Главной военной прокуратуры, расследовавший обстоятельства расстрела в 1990–1991 гг., констатировал: «Выводы экспертизы почерка Меньшагина нельзя считать обоснованными и объективными. Объективно в них только то, что почерк в блокноте и на четырех образцах почерка, представленных на исследование, идентичен, но кому он принадлежит, неизвестно. Утверждение Базилевского, что это почерк Меньшагина, не может приниматься во внимание, поскольку он сотрудничал с НКВД. С учетом всех этих обстоятельств, а также того, что самого Меньшагина скрывали в Московской, а затем Владимирской тюрьме и не взяли у него подлинных образцов для сравнительного исследования, следует признать, что «блокнот Меньшагина» — фальшивка, сфабрикованная в НКВД»7.
Это утверждение все же нуждается в одной поправке. Дело в том, что «блокнот Меньшагина» с записями о гетто действительно существовал! Все меньшагинские следователи дружно интересовались этим блокнотом, а однажды даже вызвали на допрос стенографистку для снятия дословных показаний о блокноте с типографским грифом «Начальник смоленского областного управления государственной безопасности» на страницах: в блокноте — меньшагинские записи. Меньшагин объяснил, что в первых числах августа 1941 года его вызвали в СД, располагавшееся в том же здании, что и гестапо (в бывшем здании НКВД), и приказали подобрать место для еврейского гетто. Удивившись тому, что Меньшагин ничего не записывает, и услышав в ответ, что не на чем, немец (майор Клингенгофф) подошел к встроенному в стенку кабинета шкафу, открыл его дверцу и, вытащив оттуда, протянул Меньшагину блокнот с этим самым грифом, в который тот сразу же начал конспектировать его указания.
Так что фальшивкой, по-видимому, является не сам дневник, а вписанные в него «почерком Меньшагина» вставки о Катыни!

Вообще, Катынь сыграла в судьбе Меньшагина двоякую роль: она спасла его от смерти, но она же и стала причиной той исключительной степени изоляции, которой он подвергся: 25 лет — максимальный срок, из них 19 лет в одиночках, в том числе 3 года под номером, а не под фамилией.
Как юрист Меньшагин лично оценивал свою вину как тянущую лет так на десять. Но как вдумчивый аналитик понимал, что его судьба оказалась в силовом поле куда более значимых факторов, чем Уголовный кодекс, — и прежде всего фактора Катыни.
В любом случае ни легкой, ни счастливой судьбу Бориса Меньшагина не назовешь. Но считать его свидетельства неоценимым историческим материалом можно безо всякой боязни. Пришло время собрать их в книгу, снабдив ее комментарием и прочим научным аппаратом. Работа эта уже ведется: так, большой фрагмент воспоминаний Меньшагина — вместе с биографическим очерком — увидит свет еще в этом году.
Но очень хочется верить, что открывать будущую книгу будут именно воспоминания Меньшагина, написанные им в тюрьме. Поскольку его дневники — это не личный, а исторический документ. Включение их в сводную мемуарную книгу было бы серьезным вкладом в научное осмысление такого важного феномена советской истории, как немецко-нацистская оккупация.
«Новая газета» будет следить за этим проектом и надеется, что центральные и владимирские архивы ФСБ и МВД помогут с выявлением и предоставлением не только меньшагинских мемуаров и его «блокнота», но и самих его дел — следственного и тюремного.
Павел Полян — специально для «Новой»
1Полностью опубликована в серии из трех публикаций Н. Илькевича «Смоленск во власти неприятеля: 26 месяцев оккупации» (Смена (Смоленск). 1994. №№ за 18 и 25 июня, а также 2 июля). Со ссылкой на: Архив Управления ФСБ РФ по Смоленской области. Д. 9856с. Л. 21—27 об. 2Архив Управления ФСБ по Смоленской области. Д. 9856с (сообщено Б. Ковалевым). 3Благодарю С. Красильникова за поиски и находки в университетском архиве Новосибирского государственного педагогического университета. 4По сообщению А. Яблокова, знакомившегося с «блокнотом» в начале 1990-х гг., он вместе с другими вещдоками был предоставлен КГБ СССР и представлял собой тетрадь формата А4. 5Сообщение специальной комиссии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров. М., 1944. С.19-20. 6Им должен был быть заместитель Генерального прокурора Н.Д. Зоря, но он был найден мертвым в своей постели в Нюрнберге 22 мая 1946 г. после того как не сумел не допустить признания под присягой И. фон Риббентропа и Э. фон Вайцзеккера о пакте Молотова-Риббентропа. 7И. Яжборовская, А. Яблоков, B. Парсаданова. Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях. М., 2001. С. 389. По сообщению А. Яблокова, эта фальсификация была заактирована.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68