Черно-белое полуторачасовое наблюдение за посетителями концлагеря Заксенхаузен, на территории которого погибло свыше 100 тысяч узников. Не оторваться. Причем в фильме Лозницы мы практически не видим ни печей крематория, ни орудий пыток, ни камер, ни тюрьмы. Нет экспонатов смерти. Только люди. Наши современники. Среди живописного леса меж разрушенных и восстановленных стен бродят группы туристов: молодые, старые, дети, собаки. В руках электронные гиды, рекламные проспекты, телефоны, фотоаппараты. Картинка нейтральна, замеревшая камера не выхватывает из толпы отдельные группы, отдельных туристов, лица… Они сами «входят в кадр». Мы же рассматриваем визитеров фабрики смерти. Кажется, отключены все эмоциональные регистры, в том числе отношение к чудовищной трагедии: массовой гибели одних и массового расчеловечивания других. Синхронный звук: шорох листвы, гомон летней экскурсионной толпы, разноязыкая речь, приглушенный смех. Фрагменты отдельных экскурсий: как устроен лагерь, как строили стены, в том числе и между заключенными, как доктор проверял зубы, выискивая золотые коронки. Как слаженно работали газовые камеры — чтобы заранее не пугать заключенных, газ подавался вместе с водой. Кто же откажется от душа? Есть вопросы, комментарии? Нет? Идем дальше, прибавьте шагу, за нами — другие группы. Туристы входят в ворота с печально знаменитым лозунгом «Arbeit macht frei». Люди с удовольствием фотографируются на его фоне — будет что показать в соцсетях. Из черного дверного проема, как из преисподней, щурясь и надевая солнечные очки, выходят «посетители музея», просматривают смартфоны, делают селфи. И кто здесь умершие, кто живые? В романе Зебальда «Аустерлиц», вдохновившем Сергея Лозницу на съемки фильма, — автор пишет об особых пространствах, в которых нет времени, где живые и мертвые, смотря по состоянию духа, свободно перемещаются. «И чем больше об этом думаю, тем больше мне кажется, что мы, те, что пока живые, представляемся умершим нереальными существами, которые становятся видимыми только при определенной освещенности и соответствующих атмосферных условиях».
Съемки проходили на территории бывших концлагерей: Бухенвальда, Дахау, Берген-Бельзена, Равенсбрюка, Заксенхаузена и других. Обычная летняя, распаренная жарой толпа в необычном месте. Маленькие пикники с сэндвичами на обочине смерти, телефонные звонки, один — с темой фатума из Пятой симфонии. В финале опоздавшие бегут в лагерь, догонять шумную группу… Черный экран. Трудно подобрать жанр такому кино. Для меня это хоррор, который не знает, что он фильм ужасов. Почти беззвучный, почти безэмоциональный. Гнев исподволь закипает у тебя внутри. От бессилия. От стыда за то, что нельзя ничего поправить — и уже не вытравить белых пятен.
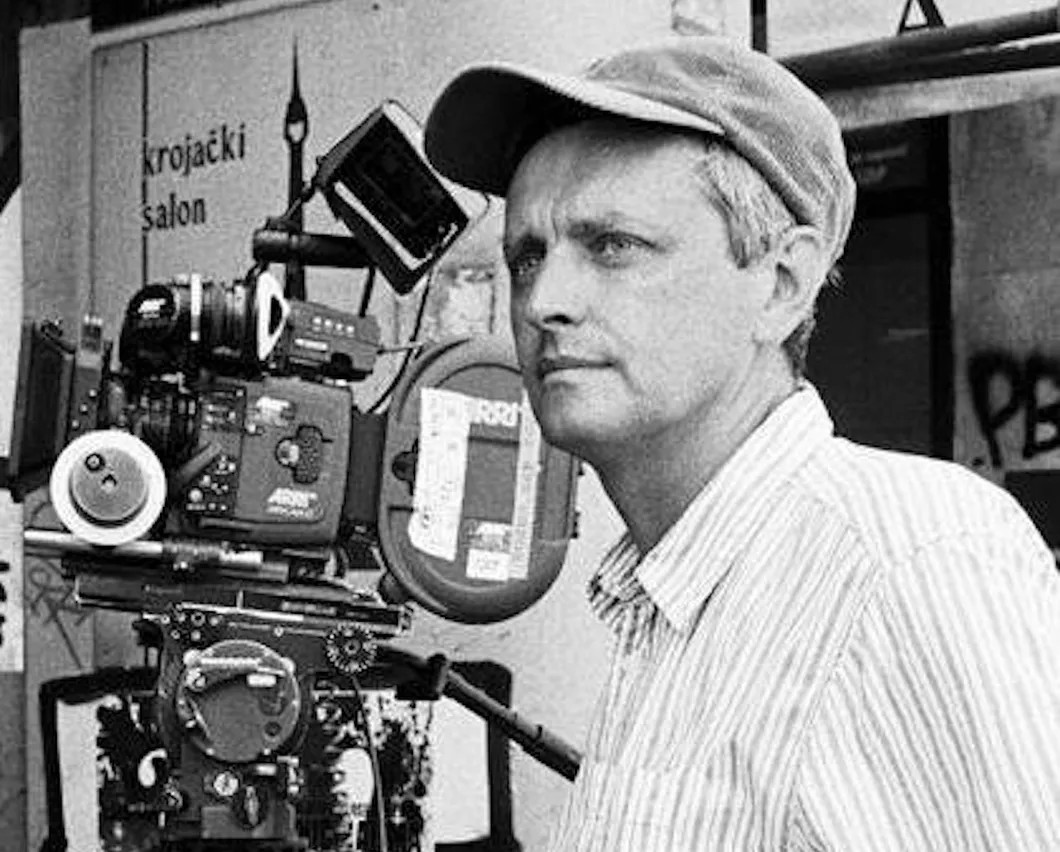
— Сегодня только и слышу: «Не грузите меня!», «Зачем вы про детский хоспис… Холокост, сирот… Всем хочется полегче, попозитивнее!» Все, что вы делаете, это — «потяжелее». Война, блокада, концлагерь, следующий фильм про Бабий Яр. В чем аномалия: в вас или в установке «на позитив»?
— Мне слово «грузить» не нравится. Хорошо бы исключить его из лексикона. Люди не хотят задумываться, где они находятся, чем занимаются в жизни.
— Не хотят тратиться.
— При чем здесь «тратиться»? Есть главные вопросы: «Где я нахожусь?», «Чем я занимаюсь?», «В чем участвую?» В этом проблема. Вероятно, они жить не хотят, вот в чем дело. Потому что, если живешь, неизбежно сталкиваешься с этими сущностными вопросами. И потом кино — это не про то, как расслабиться и получить удовольствие. Серьезная литература и серьезный кинематограф, они всегда — вокруг серьезных проблем.
— Как я поняла, в центре вашего внимания не сама индустрия смерти, а портрет туристов. В чем главная проблема? Вроде бы люди интересуются драматичными страницами прошлого.
— Мне кажется, здесь целый комплекс вопросов. Я-то начинал с самого простого. Меня поразил этот поток безразличных людей, которые далеки от всего того, что происходило на территории, превращенной в мемориалы. Они приходят смотреть места убийства десятков тысяч людей, но… не понимают, на что они смотрят. Какая же дистанция разделяет этих зевак и тот ужас, который переживали погибающие узники. Для меня лично существуют некие внутренние запреты, о которых многие и не подозревают. Например, мне кажется, что нельзя фотографироваться на фоне крематория, делать селфи на месте казни. От подобного оторопь берет. Или фотографироваться на фоне слогана «Работа делает свободным» — «Arbeit macht frei», или «Jedem — seine» — «Каждому — своё».
В первый раз, попав на территорию бывшего концлагеря, я почувствовал неуместность, неэтичность своего пребывания в этом месте как туриста. Вот это переживание и стало импульсом — вернуться уже с камерой. Не знаю, может, это моя странность, но чем дальше, тем больше было изумления. Проблема в том, что люди, живущие сейчас, не понимают, что там на самом деле произошло. Они воспринимают это скользящим туристическим взглядом. Взглядом смотрящего кино или новости по телевизору. Наблюдают смерть на безопасном расстоянии. Не все без исключения, конечно, но такое впечатление сложилось у меня от общего туристического потока.
А потом я узнал, что бывшие концлагеря — Заксенхаузен, например — самые посещаемые туристические достопримечательности в Германии. Эти мемориалы появились в 50-е, 60-е. Мне кажется, они создавались без какой-либо внятной концепции мемориализации и представления трагедии. Не знаю, насколько серьезно был продуман вопрос о необходимости восстановления всех этих бараков и крематориев со строжайшим соблюдением технологий массового уничтожения.
— То есть в каком-то смысле это близко к Диснейленду, аттракциону ужаса?
— Мне кажется, над этим никто не думал. На мой взгляд, в таких местах должны быть храмы, культовые учреждения. Места, куда можно прийти поплакать, покаяться, помолиться. Но не с фотоаппаратом, в состоянии праздного любопытства: а как же… а где? Где кости, где пепел, вещи, зубы? Вот же, оказывается, у них самодеятельность была, они даже на гитарах играли. Рисовали! Очень интересно! У них и кружок был. И театр!
— Кошмар.
— Это не кошмар. Это примитивная технология каталогизации, музеефикации. Все, что сохранилось, требуется разложить по полочкам. А во что все это превращается… С одной стороны, ужасные события, как мне видится, так и не пережиты, не осмыслены. Да и не понимаю, как можно прочувствовать возможность технологического уничтожения огромного количества людей. А с другой стороны, есть музейная деятельность. Раскладывание по полочкам и представление зрителю «вещдоков». И возникает вопрос: каким образом всю эту историю можно представить? Какова цель данной экспозиции? Вызвать шок? Рассказать о том, как нельзя? И достигают ли цели кураторы подобного рода экспозиций? Насколько вообще можно передать кошмар, происходивший на протяжении долгого времени здесь и сейчас, нам — далеким от этого кошмара? Получается дикое смещение. Нам «представляют» нечто, не похожее на то, что было. К тому же пришедшими в музей концлагеря людьми движет желание посмотреть такой horror, как то, что он привык смотреть в телевизоре. Странные, смешанные чувства вызывает это место.
— По идее, в «зрачке» смотрящего мы должны были бы увидеть отражение трагедии прошлого, а этого не происходит.
— Фильм предполагает дискуссию после просмотра. Вообще-то не знаю, что делать с этим опытом. Храм-на-крови нужно ставить, если кто-то действительно хочет каким-либо образом предостеречь людей от подобных «человеческих проявлений» — создания отлаженной фабрики смерти, превращения человека в пепел. Животные на это не способны.
— Кино — как перекрестье взглядов.Зритель смотрит на зрителя, который смотрит на вещественные доказательства массового убийства. Парадокс в том, что с такими же лицами люди ходят по любым галереям и музеям. Ваша картина затрагивает проблему взаимоотношений с памятью. Ведь не случайно одной из главных задач фабрики смерти было уничтожение следов, документов. Значит, в каком-то смысле задача выполнена? Судя по тому, как современное общество «рассматривает» свое прошлое.
— Но обратите внимание, в Германии, где я снимал, эти лагеря существуют, там есть хотя бы попытка сохранить память о том, что произошло. Если говорить о России, где также процветал страшный режим, там эти объекты практически отсутствуют. Есть в Перми лагерь, но ведь ГУЛАГ — это огромное число лагерей по всей стране. Некоторые объекты до сих пор действуют успешно.
—Зебальд в «Аустерлице» предостерегает, чем чревато забвение: с каждой угасшей жизнью самоопустошается наш мир. У нас свои взаимоотношения с прошлым. Дело не только в беспамятстве, историей спекулируют «в особо крупных размерах». Не так давно, к примеру, изъяли пособия для старших классов, потому что изучение в школе сталинских репрессий «вредно для психического здоровья школьников».
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
— Что тут можно сказать? Это государственная политика. Государство выращивает, селекционирует траву без корней. Трава не ропщет. Об этом уже скучно говорить. Это очевидно было и 25 лет назад. «И мы, как Меньшиков в Березове, читаем Библию и ждем».
— 25 лет назад не было интернета. Какой смысл на уровне школы стирать целые страницы истории?
— Это вопрос управления людьми. Проще управлять Tabula rasa. А в интернете еще требуется умение и желание порыться, почитать, разыскать. Все это очевидно. Важно другое: нет никакого сопротивления. Сила противодействия иссякла. «Иных уж нет…». Многие активные люди уехали или доезжают сейчас.
—Молодежь не смотрит телевизор, она живет в интернете. Как можно запретить ей знать, читать?
— Отключить интернет. Думаю, это следующий шаг. Ждать долго не придется. И что дальше? Ведь никто не готов стоять грудью, класть голову за истину, за память. Таких буйных, опрометчивых людей практически не видно.
— В недавнем интервью «Новой газете» Даниил Дондурей говорил о «новой либеральности», которая вписалась в новую систему российской жизни, о главном страхе материально защищенных образованных людей: расстроить начальника.
— Все это не ново. И никакие они не либералы. Так… Верноподданные. Холопы. Либералы — свободолюбы, а это челядь. Ей ошейник люб, она чутка к окрику хозяина, команда слух ее ласкает.
— К разговору об истории. Вот Андрей Кончаловский в недавнем интервью «Новой» убедительно доказывал, что подлинная история неизвестна никому. Вас же тоже упрекали в свое время за «Счастье мое» и «В тумане» за искажение истории. Каков ваш метод восстановления правды событий?
— Очень сомнительный тезис, что подлинная история неизвестна никому. Это красивая фраза, за которой ничего не стоит. Существуют исторические факты, это необратимо. Когда родился и умер — это факт. Это и есть подлинная история. На могильном камне она написана. Вы же не будете возражать? Или, например, историческое событие. 19 августа 1991-го сотворилось «нечто». Но танки-то на улицах Москвы были, это же подлинный факт. Как можно его оспаривать? Дальше дело в осмыслении, в создании мифов. Но мы можем говорить о необратимых процессах и фактах. Сталин был главой страны или нет? Троцкий пострадал от альпинистского ледоруба? Погибшего Ленина возложили в деревянный щусевский мавзолей в конце января 1924-го? Или нет? Люди вышли или не вышли на Майдан в Украине? Это все история или не история? О чем разговор? Что мы ставим под сомнение?
— Дальше художник имеет право на интерпретацию.
— Почему именно художник? Существуют разные взгляды. Речь идет о причинах, предпосылках события. 1991 год — это вообще что было такое? Действительно, о многих вещах мы можем только догадываться: документы скрыты в архивах. Какие-то документы исчезают. Другие — объявляются. Как пакт Молотова—Риббентропа. Однако существует разная степень доверия к архиву. У американцев, например, была фотокопия пакта, снятая в Рейхсканцелярии. А Горбачев предъявил оригинал. Лишь после этого историки приняли этот пакт не как гипотезу, легенду, а как непреложный факт. Речь о том, насколько историки внимательны, подробны и дотошны в изучении доказательств и свидетельств происшедшего, насколько вольно они позволяют себе трактовать факты. Что происходит сейчас в Российской Федерации? Что происходило в Советском Союзе в 1991-м? Думаю, долгое время должно пройти, прежде чем поймем, что на самом деле было, включая блокаду Горбачева в Форосе. Эти танки странные, гибель людей, противостояние, метания туда-сюда Собчака. Роль Крючкова во всей этой истории. Ельцина. Там много чего сокрыто. И многое связано с тем, что сейчас происходит. Но когда-то это выплывет. Очень надеюсь. Необходимо обратить на эти события внимание, поскольку уже многие забыли и про голод в Украине, про мотивации Гражданской войны. В частности, вопрос о конфискации собственности до сих пор остается открытым — и в Украине, и в России. Осталась недоисследованной механика репрессий, причины возникновения Белого движения. А затем и способов его уничтожения вместе со всем белым офицерством. И чтобы все это не утопало в омуте беспамятства, имеет смысл туда смотреть. Не отворачиваться. И я, насколько возможно, всегда буду смотреть в эту сторону. У меня большие планы.
— Имея возможность снимать в Европе, вы продолжаете работать с прошлым и настоящим постсоветского пространства. Потому что отсюда вы родом?
— Я не делю время на абстрактные величины «прошлое» и «настоящее», они нерасчленимы. Наше прошлое — в событиях, происходящих сейчас. Возьмите, например, литературу 20-х годов. Посмотрите, как описывалась Гражданская война. Возьмите книги Валерьяна Пидмогильного. Он описывает места, где и сегодня идут сражения. Где начали захватывать территории, луганскую и донецкую… Просто один в один! Ничто не изменилось. Может быть, технологии. Но сознание топчется на месте. Следовательно, какое же это прошлое? Это самое что ни на есть настоящее!
— Прошлое дает оптику во взгляде на настоящее?
— Какую оптику! Если вы стоите на месте, и ничего не происходит, вы такой же, каким были 100 лет назад. Точно такие же люди, с такими же взглядами, с такой же реакцией на внешние раздражители. Какая разница, ездили вы на бричках, потом на «Жигулях» или «Рено»? Сознание — то же, методы, действия. Отношение человека к человеку как способу достижения цели. К средству, которое можно использовать, а потом заменить или выбросить. Время застыло. И стояние жизни не изменилось, покрылось ряской. О каком настоящем, прошлом, будущем вы говорите? Просто рассмотреть тот период проще, поскольку есть условная дистанция. Вчерашний день не трогает нас так личностно, как сегодняшний.
— А можно «неправильный» вопрос? Вам не страшно глубоко погружаться в ужас концлагерей, Бабьего Яра? Даже от одной мысли о том, что и как там происходило, волосы встают дыбом.
— Если возникает даже предчувствие страха, нужно менять профессию. Не скажу, что это «хорошо», но это крайне интересно. И есть же такое понятие — «долг». Чувствую свои обязательства перед жертвами тех чудовищных событий, превращенными в пепел людьми. Стыдно, что на всей территории необъятной страны не сделано ни одного по-настоящему серьезного фильма об этом кошмаре. Да и есть ли серьезные фильмы о ГУЛАГе? Я думал: «Боже мой! В 90-е об этом столько написали, порассказали. Сейчас начнется!» И что?! Где этот прорыв, художественный анализ? Где страшные переживания, скорбь по тому, как одна часть народа уничтожала другую? Где эти фильмы? Помню настоящую драму — «Кома» прекрасного режиссера Нийоле Адоминайте. В «Хрусталёве, машину!» отчасти про другое, но также эта тема присутствует. «Десять лет без права переписки» Наумова — скорее беллетристика. Американцы пытались что-то делать. Но ведь кошмар сталинизма — среди самых трагичных и важных событий века. И какая литература мощная! Домбровский, Шаламов, Горенштейн. Почему же все избегают, сторонятся этой темы?
— Сегодня в моем окружении довлеют безрадостные настроения. Трудно без надежды. На что уповать потерявшим ее?
— А в себя-то вы верите, что вы совершаете правильные поступки?
— Скажем так, я стараюсь.
— В этом и спасение: не участвовать, не инициировать новый кошмар. Не отступать, держать свою пядь. Если бы каждый придерживался подобного принципа, никакого кошмара не было бы. Нам страшно вылезать из черной ямы. Катимся по инерции, потому что все, к чьей коже эта гадость прикасается, отступают. И никто не пытается сопротивляться. Но ведь и когда отступают, очень страшно. Все идет к каким-то неприятным событиям. Ну, ничего, будем держаться, кто как может…
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68