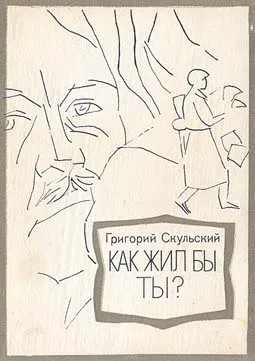
— Вот это да! У меня такой нет. Как это ты ее сохранила?!
Афиша Рижского ТЮЗа 1968 года, режиссер — Адольф Шапиро, автор — Григорий Скульский, а название — «Спотыкаясь о звезды» — взято из моих детских стихов, и пьеса посвящена мне, и я приезжала на премьеру, и молодая актриса, игравшая «меня», сказала: «Ах вот ты какая!»
Моему отцу исполняется 9 октября 100 лет. Он принадлежит к тому поколению писателей, для которых главным событием в жизни была Великая Отечественная война. Он ушел добровольцем на фронт из Киева в июле 1941-го, а в конце войны, после ранения, оказался в Таллине, здесь он стал заслуженным писателем Эстонии, здесь написал лучшую свою прозу. Последняя его книга вышла в 1987 году, спустя четыре месяца после его смерти. Она называлась «Тревога», это слово относилось к слому эпох — он ждал его, торопил и не мог принять.
Лев Аннинский сказал мне: «Все мы в какой-то мере «розовые мальчики» из рассказа вашего отца…» То есть несем в литературных генах страх, слепую веру и сомнения в очевидном.
Конечно так. И все-таки: мой отец был заклеймен как космополит, лишен права печататься, но не согласился стать литературным рабом. В книгах воспоминаний эстонских писателей я то и дело нахожу истории, о которых он мне никогда не рассказывал. Он в 1958 году, когда Союз писателей Эстонии должен был, как и все, заклеймить Пастернака, вышел на трибуну и читал, читал стихи поэта до тех пор, пока в зале не раздались аплодисменты…
Мой отец умел писать так грустно и правдиво, так достоверно и ясно, словно и не было того мрака, внутри которого он искал и всегда находил острова света, где можно было дышать художнику.
А «Розовый мальчик», вошедший во множество антологий лучшего рассказа ХХ века, — о человеке, вернувшемся с фронта, о его семье, о том, как им не хочется выходить из дома, а хочется любить зиму из окна, и о том, как поворачиваются поленья в печке, и тепло согревает утихающую боль. Из окна видно, как работают пленные немцы, расчищают развалины. И одного мальчика лет шестнадцати, «розового мальчика», семья фронтовика жалеет и пригревает, и он благодарно сидит у них за столом, поддерживая тихий уют. А однажды они застают его в слезах и хотят утешить, но слезы его — слезы восторга, ведь сегодня день рождения фюрера.
Пьесы отца шли на многих сценах страны, но сам он был довольно равнодушен к театру, сторонился его ночной, искусственной жизни и с недоумением рассказывал мне, как на одной из премьер, когда кричали «Браво!», к нему приник незнакомый человек и восторженно прошептал: «Нет высшего счастья, чем это!»
А я-то соглашусь с незнакомцем. За двадцать пять лет, прошедших со смерти отца, мир изменился совершенно. Не по сути своей, конечно, но по орнаменту, быту, привычкам, интерьеру. А театральные типажи не изменились. И измениться не могут.
На одной из своих премьер в Русском театре Эстонии отец послал цветы исполнительнице главной роли с запиской: «Асе Бедрединовой — Алисе Коонен нашего театра». На сцену вынесли совершенно развороченную корзину: коллеги актрисы не смогли аккуратно отцепить записку, прикрученную к стеблям проволокой заботливым капельдинером.
Мне говорила актриса, игравшая уже в моей пьесе:
— Всё ложь! Артисты — не сукины дети! Мы — дети в сиротском приюте, лица прижали к окнам, стираем дыхание со стекол: возьмите, пригрейте! Придут, возьмут, истерзают и бросят; так и мы зарежем благодетеля, разве можно на нас за это сердиться?!
Отец рассказывал, как на одном худсовете, где запальчиво ругали молодого автора, он благодушно и примирительно начал:
— Друзья, не будем забывать, что художника все-таки надо судить по тем законам, которые он сам перед собой ставит… — и ему было немного неловко ссылаться на совершенно замусоленную фразу Пушкина. Но ничего. Тут же очнулся завлит театра и продолжил: «Как замечательно заметил Григорий Михайлович — запомним его формулировку, — художника нужно судить…»
В другой раз ответственный работник министерства, похвалив постановку в театре «Бориса Годунова», закончил речь так: «А с фрондерством, со всякими там белыми стихами мы будем бороться!» Отец наклонился к нему и шепнул: «Борис Годунов» написан как раз белыми…», и советник министерства продолжил: «Потому что есть наши белые стихи, а есть — враждебные нам по своей форме!»
А мне недавно звонит дама из отдела рекламы:
— Елена Григорьевна, приходите скорее. Фонвизин приехал, хочет с вами познакомиться.
— Какой Фонвизин?
— Тот самый. Автор «Бригадира»!
В театр приехал автор мюзикла…
Конечно, чужой театр мелок и холоден. Жалкое искусство. А в своем театре теплый бархат и ласковый свет. Это как в любви — что отвратительно в чужой, то вылизываешь в своей.
И любуешься зимой из окна. Наш Таллинский театр некоторое время возглавлял Михаил Чумаченко, прибывший из Москвы, где не поставил, впрочем, ни одного спектакля. И не успел он въехать в город, как дежурный критик, пишущий под псевдонимом Крошка Тухес, сообщил: «Наш театр принял прославленный московский режиссер…»
Недавно на крыше нашего театра выпивала художественный руководитель с тремя молодыми актерами. Один из них, пока еще не принятый в труппу, сорвался с крыши и упал. Говорят, что он еще несколько секунд держался за край:
— Наташа, если ты возьмешь меня в театр, я выкарабкаюсь!
— Ты сам должен сделать свой выбор, — отвечала она.
Отец незадолго до смерти рассказывал: они въехали в эту деревушку поздним августом 44-го. Сразу вывели им прямо на дорогу четырех босых полицаев. Их повесили деревенские — с грузовика — на сучьях. И сразу же пошли танцевать женщины, расправляясь под деревьями, девушки в лежалых белых платьях. Гармонист безногий сидел в теплой черноземной ямке от шины. Сладкие пыльные листья прилипали к женским рукам. У полицаев оттопыривались карманы на пиджаках, языки не помещались больше во рту. Свесились глаза. И так плясали, так счастливо бились-плескались под серыми гроздьями девичьи косынки, что никогда уже отец не смог об этом написать.
Одной из ведущих актрис театра сообщили неутешительный диагноз. Соблюдя известные театральные приличия, остальные начинают делить ее роли.
И можно чисто по-человечески понять пятерых актрис. Они купили бутылку водки и бутылку вина; к вину печенье, к водке три котлеты из кулинарии. И вдруг одна, только что съевшая котлету, просит вина! То есть как?! Зачем же ты ела котлету?
— Дайте мне вина! Алчет дорогого вина мое ненасытное сердце, — поет К. М. и опрокидывает в себя буквально полбутылки.
— Таковы люди, — приходит к выводу Л. П. Ей легко говорить, теперь, когда С. — дрова, Л. П., без всякого сомнения, получит няню в «Сюрпризе с американцем».
— Дрянь, а не люди, — соглашается из своего опыта совершенно, конечно, счастливая Катя И., она была на разовых, продавала клубнику весной на рынке, а теперь у нее будет три ввода как минимум, и даже если из репертуара уберут «Проклятие императрицы», все равно останется еще уборщица в «Седьмом дне».
А К. М. не на что рассчитывать, ее вчера отправили на пенсию, она думает, что еще никто не знает.
И так далее, и так далее.
Больше всего Шекспир наобещал будущим литераторам сценой «Мышеловки». Мол, все придут в театр, узнают себя и ужаснутся. И было так сладко об этом думать, что все поверили. И Чехов поверил. У него в «Чайке» есть сцена «Мышеловки», пьеса в пьесе. Там Нина Заречная так говорит про рогатых оленей, что Аркадина не выдерживает, выдает себя.
На самом деле никто и никогда себя не узнает. Да и ходит на спектакли один только Клавдий, только ему и нравится искусство. Потому что главные герои ищут смерти, а второстепенные довольствуются прекрасным.
Елена СКУЛЬСКАЯ