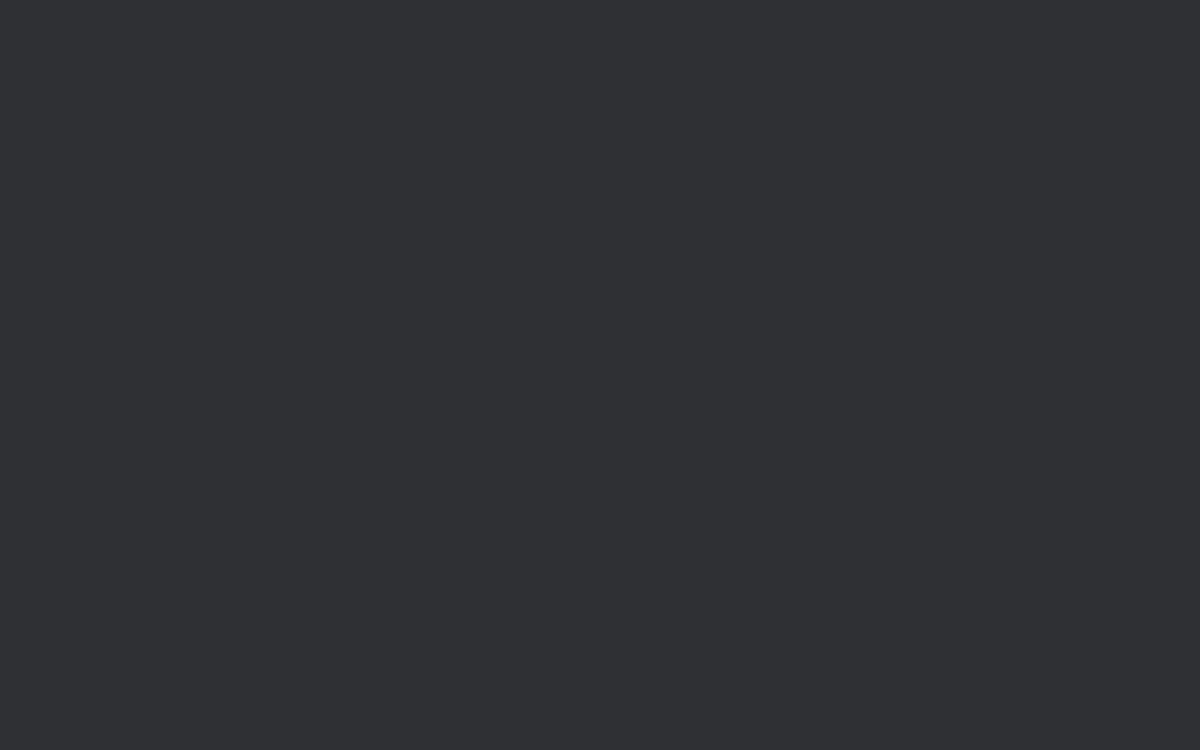…Да мы-то здесь не первый день — Мозги от мата набекрень, А он в наряде рисовал портрет жены. О том, что будет через год, Никто не думал наперед — Мы не могли представить жизни без войны.
Под небом гребаной Рухи
Мы полюбили с ним стихи,
Мы с ним по-новому увидели Восток.
Как говорили дембеля:
Мол, на таких стоит земля
И старшины с собою брали адресок.
Потом был снайпер.
Мать твою.
Под Хостом…
В первом же бою...</em>
Михаил Кошкош
Муху я не помню. Совсем. Мы не могли не встречаться — он был в девятой роте, во взводе Короля, а я через день тянул к ним связь, меняя аккумуляторы на станциях и проверяя настройки, и подолгу задерживался, попивая чай или просто болтая. Их было шесть человек — Славка, Король, молодой, Вася-Сапожник, Шишигин и Муха. Наверняка мы разговаривали и курили вместе — я просто не мог не видеть его на таком маленьком пятачке в таком маленьком коллективе.
Отлично помню двор, в котором они жили. Хороший богатый кирпичный дом в три этажа с пристройкой, стоящий сразу перед дорогой, самый крайний на наших позициях с правого фланга. Дальше не было никого, поэтому-то мне и приходилось мотаться к этим шестерым, которым никто не мог бы помочь в случае чего. Они жили один на один с войной, отдалившись уже и от роты, и от моей призрачной связи. Я приходил из другого мира, в котором были танки, люди, масса, артиллерия, поддержка, командование, армия, медики, тыл и, как ни крути, все же Россия за спиной.
У них — шесть автоматов и гранатомет.
Ни в дом, ни в пристройку они не уходили, жили на земле, устроив лежбище в закутке за сенями, променяв тепло на свет. Хотели неба над головой, пространства — прятаться в подвалах как крысам всем уже порядком осточертело. Даже такая незначительная вольница давала ощущение человека, не животного.
Накиданные на землю матрасы, снарядные ящики, взводное барахло, костер, котелки, автомобильные сидушки…
Славка, что-то разогревающий на огне.
Отлично помню дома напротив. Они были заняты чехами. Точнее, еще не заняты нами. Лини фронта как таковой не существовало, чехи время от времени приходили в эти дома и обстреливали позиции роты, а мы обстреливали их. Я тоже стрелял. Выпустил несколько комплектов из гранатомета, выбив закрывавшую обзор железную калитку и взорвав какую-то подозрительную сараюшку.
Помню и эти чертовы сады. Они были ничьей территорией. Наверное, я и сейчас, через десять лет, смог бы пройти от нашей пятиэтажки в Ханкале до дома Короля с закрытыми глазами и срастить все порывы на линии.
Я ходил один или с Олегом Борисовым. Иногда мы стреляли по банкам. Глупый, какой-то мальчишеский интерес.
Потом в этих садах нашли обезглавленные тела. Стрелять мы перестали.
Помню хмурое небо, слякоть, холод, горы, яблоневые сады — все: до запахов, до мурашек по коже, до постоянной тянущей боли в гниющих ногах и холода под вечно волглым бушлатом.
Но Муху не помню. Совсем. Он не остался в памяти совершенно. Ни образа, ни лица, ни роста, ни телосложения или какой-нибудь иной детали. Не осталось даже каких-либо ощущений от него.
Все, что я знаю о нем, знаю только из рассказов.
Но это осталась в памяти навсегда.
Война привлекает сама по себе, одним лишь фактом своего существования. К ней хочется быть причастным. Она притягательна, как притягательно любое уродство — страшно, неприятно, противно, но смотреть хочется. Как хочется смотреть на трупы. Этот Гуинплен вселенского масштаба делает с обществом то же самое, что и публичная казнь, — снимает запреты. И это ожидание возможности шагнуть за край, где можно все, приводит людей в состояние веселой озлобленной возбужденности, задорного ожидания убийства. Будоражит кровь и порождает грезы о подвигах, ранениях, наградах, смертях, трудностях, любви и окопной романтике.
Мы на войну хотели. Да, хотели. Не в Чечню как таковую, нам было все равно куда ехать, и если бы война началась в Москве, мы воевали бы в Москве — она была интересна сама по себе, без персонализации врага и цели конфликта.
Контрактники, те, кто ехал туда не в первый раз, осознанно — и я в том числе — уже зная цену всей этой романтике, осознавая, в какое говно окунаем себя сами, мы туда хотели тоже. «Назад во Флэри. Вставайте, братья, нас предали» — да, это правда… Мы пытались вернуться к самим себе, потому что военный билет выдается только в одну сторону и обратного пути не существует. Вирус войны поразил нас, завладев сознанием и превратив его в сознание все того же Гуинплена, отторгнутого миром урода, место которому лишь одно — в этом цирке сумасшедших, именуемом войной. Вернувшись оттуда, мы оказались никому — вообще никому! — не нужны и, осознав это свое место, стали возвращаться тысячами. Многие ехали для того, чтобы оставаться там навсегда.
Сейчас, по прошествии времени, я понимаю, что это было безумием. Но там этого не заметно. Там ВСЕ такие. В армии человек теряет свою индивидуальность и начинает жить коллективным разумом, как муравей в муравейнике. Как правило, этот разум ненормален. И на фоне безумия безумием как раз кажется нормальность.
Муха был нормален. Ехать на войну он не хотел.
В свои восемнадцать лет он внутренне был взрослее даже нас, контрабасов, познавших другую сторону существа. У него была нацеленность на жизнь, что у нас, зараженных убийством, отсутствовало напрочь. Никто не смотрел дальше завтрашнего дня. Муха же ждал будущего, был уверен, что оно будет — и обязательно будет счастливым. Свой армейский срок он переносил легко, не тяготясь им, зная, что рано или поздно он закончится, и армия не занимала в его жизни много места, не стала главным событием даже в самой армии, лишь временной задержкой в том векторе жизни, который он себе избрал. Уже в этом своем солдатском возрасте, по сути, еще детском, он жил взрослыми, мужскими ценностями — дом, семья, дети, счастье.
Не имея опыта войны, он как-то сразу понял ее суть, понял, что она разрушит то его будущее, которое он себе наметил, разрушит его самого, его личность, от которой это будущее и зависело, не даст сохранить эту свою целостность, которая — он знал и это — рассыпалась бы в прах, как только ему пришлось бы стрелять в людей. Он верил, что человек жив лишь до тех пор, пока никого не убил, а убивать себя своими руками не хотел.
Нет, он не был трусом или шкурником, не искал теплого местечка и не прятался за спины товарищей. Нормальный парень, шустрый, отзывчивый, шаристый. Готовность к самопожертвованию в нем отмечали все, как и необычную доброту, хоть и не такими возвышенными словами.
Но он не видел в этой войне той цели, ради которой стоило бы жертвовать всем остальным. Не понимал и не принимал ее задач. Слова о Конституции и территориальной целостности не трогали его совсем. Он не был верующим, но внутренняя вера сидела в нем как гвоздь. Амбиции государства он ставил ниже, чем свою частную жизнь, и через нее — жизни всех остальных.
В сущности, все, что он хотел, — отбыть свои два года и вернуться домой живым, с руками и ногами, не убив ни себя, ни других.
Нормальное, в общем-то, человеческое желание.
В армии сказать «не буду» преступление само по себе. Такие опухоли индивидуальности коллективный разум отторгает. Масса не может простить личности свой собственный выбор, плох он или хорош, но — свой, а не выбор массы. Не армия для тебя, а ты для армии, нравится тебе такой расклад или нет. Система не терпит сопротивления.
Их было всего несколько человек на весь полк, тех, кто не стал писать рапорта. Возможно, ехать не хотели многие, но заявить об этом открыто осмелились человек десять, не больше.
Их начали ломать. Жестоко. Так, как может быть жестока полудетская озлобленная стая, живущая по зэковским понятиям в замкнутом пространстве. Заклевывали толпой. И те, кто искренне возненавидел, и те, кто втайне сочувствовал. Чморили походя и целенаправленно, словами и звездюлями, самыми опущенными работами, уставным дрочевом днем и избиениями в сортирах ночью. Больше всего, естественно, клевали те, кто испугался сказать о своем страхе и самому принять их сторону, — таких тоже было достаточно.
Помню, первое, что я увидел, когда зашел в казарму, — привязанного к решетке оружейной комнаты человека с разбитым лицом, надетыми на ноги лыжами и танковым траком на шее с надписью «Самоход». Встать на лыжи на армейском сленге означает сбежать, дезертировать.
Но Муху — не ломали! Его отказ не вызвал отторжения. Вся эта озверевшая от дедовщины, оскотиненная офицерами, зарабленная системой солдатня, вся эта алкашня подзаборная, бездомная и безработная, контрабасы, которым кроме армии один путь — на зону, мабута конченая, до самой отправки бухавшая в подвале казармы и ни разу даже не показавшаяся на воздух, даже они поняли. И поддерживали его в этом его начинании. В противодействии системы и Мухи они были на стороне Мухи.
«Армия — это волчья тропа, по которой надо пройти, оскалив зубы». Муха эту модель поведения не принял совершенно. Он жил человеческими понятиями. Был слишком отзывчив, слишком не по-армейски добр. Качество в армии лишнее, но когда оно абсолютно, его все же начинают ценить.
К чести остальных, надо сказать, что, несмотря на все издевательства, рапортов они так и не написали.
Муха был единственный, кто все же поехал.
Я не знаю, почему он это сделал. Его не заставили, его нельзя было заставить, да и не ломал его никто. Не чморили, ни разу не назвали лыжником, не лишали увольнений и не ссали в сапоги ночами.
Но на него постоянно давили. Давили именно на эту его сознательность: «Подумай, комбат у тебя хороший, а ты его подставляешь, полк подставляешь, товарищей своих подставляешь… как ты будешь смотреть им потом в глаза, когда они вернутся — не все… подумай…».
Его не сломали. Его просто уговорили.
Человечество нацелено на изменение к лучшему — от неандертальца к цивилизации. Война заставляет пройти обратный путь — от человека к животному.
Ничто не меняет мировоззрение так, как кусок железа, попавший в грудину. Прозреваешь мгновенно. Неприятное открытие — ты не Джордано Бруно. Можно сколько угодно размышлять о гипотетических ценностях и абсолютности человеческой жизни, но когда в тебя начинают стрелять, все идеалы мира превращаются в пустоту. Враг становится чистым эталонным врагом без обременений. Тебе плевать, чего хотят эти люди, если они стреляют в тебя. Плевать, кто прав, а кто нет. Ты готов убивать самых красивых и самых светлых, чтобы выжить самому.
Быть хорошим солдатом совсем не значит точнее стрелять и дальше кидать гранаты. Быть солдатом — значит иметь тело, в котором проснулись инстинкты. Стать разумным австралопитеком, сочетающим в себе отточенный разум человека и остроту инстинктов животного.
Опасность начинаешь воспринимать физически. Только что вы сидели вокруг костра, как вдруг оказываетесь распластанными на траве, а за шиворот сыплется земля, хотя ты не слышал ни выстрела, ни шелеста. Вы были в полете одновременно — ты и снаряд, но ты упал быстрее. При этом если подсознание определит точку падения в трехстах метрах, ты даже не пошевелишься.
Пространство существует в тебе как продолжение собственного тела, ты связан с ним десятым, двадцатым, тридцать пятым чувством, и если оно нарушается присутствием людей, ты чуешь их, как паук чует ползущую по паутине муху, — не видя, не слыша их передвижений, не ощущая запаха: человек может ничем — вообще ничем — не выдавать себя, но ты знаешь, что он есть.
Обостряются все старые чувства и появляются новые. Ты прорастаешь ими в войну, как щупальцами, срастаешься с ней в единый организм, становишься ее частью, чувствуешь малейшее изменение в ее течении и немедленно реагируешь на него.
Выживает тот, в ком эти инстинкты развиты сильнее. Чьи нервы на тысячные доли миллиметра толще и проводимость импульса в них на наносекунды выше. Чей мозг дольше может переносить напряжение.
Кто быстрее сумел пройти этот путь регресса от человека к обезьяне, избавиться от культуры цивилизации, тот и прав.
Это не имеет никакого отношения к интеллекту — это чисто животное. Высокое умственное развитие и утонченная психика только мешают — они быстро перегорают, как слишком тонкая микросхема от слишком сильного тока. Люди с грубой настройкой выдерживают дольше. Лучшие солдаты получаются из деревенских малограмотных парней, чем из высокодуховных интеллигентов.
Муха не стал играть в эту игру. Не захотел меняться. Потому что пройти этапы эволюции обратно удается уже далеко не всем. Перейдя черту, многие так и остаются волкодавами. И всю жизнь видят мир черно-белым.
Он же хотел различать цвета. Сохраняя свою индивидуальность, Муха тем самым отверг правила игры, по которым и своя-то жизнь не стоит ни копейки, не то что чужая.
На войне главное не быть первым. Тот, кто погибает первым, дает команду остальным: «началось». Узнать, что в тебя стреляют, можно только тогда, когда стрелять начали. Собственно, все, кто выживает на войне, выживают потому, что первым стал кто-то другой.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68
Чтобы не быть первым, главное — не выделяться. Не быть самым длинным, самым крупным, не надевать красный свитер, не носить каску, когда все без каски, или броник, когда все без броников. Не быть не таким, как все. Из общей массы непременно будет выбран самый заметный.
В разведку самых лучших посылают только в кино. В реальности разведрота есть только в полку — и это действительно отборные парни — но в батальоне штатной разведединицы просто нет, не говоря уже о роте. Да и слово «разведка» красиво звучит тоже в только в книжках. На деле она, как правило, заключается в следующем: «Эй, ты, сходи за угол, глянь, что там».
Всех залетчиков из всех родов войск отправляют в пехоту. А всех залетчиков из пехоты отправляют в разведку.
Ее основная задача как раз заключается в том, чтобы стать первыми. Поэтому идти в разведку не хочет никто. Здесь нет морали, простая арифметика.
Мораль в том, что пока ты не пережил два-три боя, твои шансы не стать первым стремятся к нулю.
В подавляющем большинстве случаев армейский бронежилет держит попадание автоматной пули калибра пять сорок пять.
Носить бронежилет имеет смысл только в том случае, если носишь его постоянно. Никто не знает, что и когда в него попадет. Но дело в том, что таская на себе эту шестнадцатикилограммовую броню, ты теряешь скорость. Умение быстро упасть — особое искусство. Тело инертно, его невозможно осадить на землю мгновенно, пока оно само не научится это делать. В землю нужно нырять, врубаться, вталкиваться. Время войны — секунды, расстояния — сантиметры.
Бронежилет лишает возможности моментально реагировать на изменяющиеся обстоятельства. А без скорости твои инстинкты ни черта не стоят. Тут уже все зависит не от тебя, а от умения твоего противника стрелять.
Засада бронежилета еще и в том, что ты начинаешь под него подстраиваться. Он изменяет психику. Дает ощущение неуязвимости. Но на войне воюют не только автоматами. Когда впервые слышишь, как работает крупный калибр, например КПВТ, понимаешь, что все это — пластины, шестнадцать килограммов железа, каска на голове, айл би бэк — все это фигня. Надо просто представлять силу современного оружия. Автомат Калашникова с близкого расстояния пробивает кирпичную стену толщиной более полуметра. Автомат Калашникова модернизированный — рельсу, если в упор и бронебойной. Пуля, правда, остается на этой стороне, но при попадании в грудину хватит и того. Снаряд КПВТ разносит такую стену уже в перья. Крупный осколок пробивает БМП и БТР насквозь. Гранатомет прожигает танковую броню. Мина обрушивает перекрытия. Танковый выстрел обрушивает этаж. Авиабомба складывает уже весь дом.
Поэтому такая защита довольно призрачна. Что толку в том, что пуля не пробивает сферу, если удар все равно ломает шею?
О том, как пуля, пробив грудные пластины, теряет энергию и спинные пластины пробить уже не может, но может отрикошетить обратно в тело, а там еще раз и еще, мы тоже были наслышаны.
Хорошие бронежилеты защищают, но весят они, начиная от двадцати четырех килограммов и выше — до тридцати шести. Попробуйте пробежать хотя бы сто метров с двухпудовой гирей на плече.
В современной войне живет тот, кто невидим, и до тех пор, пока невидим.
Конечно, каждый решает для себя сам, но я лично предпочитал одеваться так, чтобы было наиболее комфортно в движении. Пластины из броника выкинул, кевларовый экран оставил.
На войне часто говорят, что человек чувствует свою смерть. Это правда. Даже не чувствует, скорее, кличет. Когда человек ломается, устает жить в земле и воде, в холоде и постоянном нервном напряжении, когда его телом овладевает страх — это притупляет инстинкты. Лишает психологической силы, от чего уходит сила физическая. Проводимость нервов и реакция мозга снижаются. Теряются те самые наносекунды, которые только и позволяют выживать.
Такой человек начинает делать не то, что должен. Он понимает, что в нем что-то не так, понимает, что это за «не так», и от этого ломается еще больше. Все время находится в каком-то полусонном состоянии, перестает думать, не вылезает из апатии или страха, нереальности существования — и уже принимает свою гибель как единственный из вариантов. И больше его уже ничего не интересует.
От такого человека за версту несет смертью. Все знают, что он умрет. Но сделать никто ничего не может.
Такое состояние очень заразно. Депрессия довольно частая причина гибели. Как только перестаешь бриться, кладешь начало всей этой цепочке. Втягиваешь в нее остальных. Страх, внутреннее расстройство — это эпидемия. Поэтому я своих всегда заставлял натираться по утрам снегом и чистить зубы. Даже тумаками.
Не знаю, что тут первично, а что вторично: то ли действительно это ощущение истечения своего времени порождает усталость, то ли наоборот — усталость сокращает срок. Игорь свою смерть чувствовал, но сломлен не был. Погиб. Я тоже не был сломлен, но день, когда меня должно было убить, знаю совершенно точно. Вместо меня умер мой отец. Мишка Кокшаров сломался и погиб. Романыч сломался напрочь, но остался жить.
Но видел я и других людей — которые ни черта не чувствовали и ни черта не подозревали, и все равно были убиты.
В отличие от нас, легкомысленных, Муха никогда не снимал бронежилета. Верил — спасет, если что. Спал в нем, ел и ходил на дальняк. Его нацеленность на жизнь была велика, он знал, что переживет эту войну и все у него будет в порядке. Был разговорчив и довольно весел. Война не сломала его ни на дюйм, хотя он и тяготился ею.
Он встал и пошел от одного дома к другому. Десять метров. В бронежилете, из которого не вытащил ни одной пластины.
Снайпер попал в него сбоку. Пуля вошла слева, между передней и задней секциями броника, и вышла справа. На выходе вырвала кусок размером с кулак. Славка говорил, что видел, как вмялся бушлат от удара на одной стороне и выпучился на другой.
Человек на девяносто процентов состоит из воды. При попадании происходит то же самое, что и при ударе молотом. Энергия распределяется во все стороны. Силы сжатия и растяжения так раскачивают вещество, что клеточные стенки лопаются и ткани разрушаются. Селезенка, печень, почки, кишечник, особенно если он наполнен — взрываются.
В точке удара образуется временная полость. Ее размер примерно в тридцать раз больше калибра пули. Для СВД это около двадцати пяти сантиметров. Процессы длятся доли секунды, но этого достаточно. В животе у Мухи образовалась пустота размером с баскетбольный мяч.
Он упал без звука. Сознание потерял сразу. Жил еще сорок минут, но пока искали дымовые шашки, пока пытались подавить снайпера, пока вытащили его — каких-то пять метров — пока бинтовали, он умер.
Бинтовал Славка: «Слева маленькая дырочка такая, а перевернул на другую сторону, а там бинтовать нечего, рука аж провалилась».
Муха не был первым, кто погиб в батальоне. Люди гибли и до него. Но он был первым, кто погиб… по-настоящему, что ли. Смерть предыдущих не оставляла ощущения работающей машины убийства, люди гибли либо по глупости, либо от слабости, либо от случая. Это было закономерно.
Муха же был убит. Не погиб, а именно убит. Целенаправленно, чужой волей. Желанием другого человека.
Война вообще нивелирует человеческую жизнь, а такая смерть — особенно. Она не дает возможности защищаться. Человек перестает быть человеком и превращается в расходный материал. В мишень.
Его смерть зацепила всех в батальоне. То, что первыми погибают самые лучшие, — литературщина. Погибают все подряд. Но в этом случае получилось именно так. Если из нас и был тот, кто должен был выжить, — так это Муха.
Это-то несоответствие и клинило мозги всему батальону. Ну почему, почему именно он? Даже если он и должен был умереть — то только не так!
Если бы им поговорить… Если бы нам всем сначала поговорить… Уверен, если бы снайпер знал, в кого он стреляет, он стрелять бы не стал.
Но опять же именно это несоответствие и показало нам, что игры кончились. И началась война. Настоящая. С противостоянием чужой воли и силы. Никто не будет спрашивать тебя, хороший ты или плохой. По ошибке здесь или целенаправленно. Врагов не выбирают. А все остальное не имеет значения.
Каждый переносил это ощущение убийства на себя. Осознание того, что не ты сам решаешь свою судьбу, вымораживало. Осознание того, что можно сделать с человеческим телом, твоим телом, рушило картину мировоззрения. Мы думали, что знали, что такое страх, но страх, это когда у тебя в животе ничего не осталось и морозный воздух холодит твои внутренности изнутри, затекая через дыру в боку размером с кулак.
Мухе пришлось выполнить эту роль разведки в становлении нас как животных, хотя именно этого он хотел меньше всего.
Почему тот снайпер выстрелил именно в него? Просто под руку подвернулся? Просто потому, что носил этот чертов броник, выделяясь из толпы? Или все же потому, что Муха был не такой? Потому что, сохраняя свое будущее, сам отверг его, приговорил себя, не впустив войну внутрь и не пропитавшись ею для выживания тела, но смерти личности?
Была ли здесь только человеческая воля и стечение обстоятельств, или же это было предначертанием?
На всех войнах есть уникальная порода людей не от мира сего. Смотришь на такого человека и не понимаешь, как он тут оказался. Настолько нелепым, противоестественным выглядит само его пребывание. Таких надо отбирать специально и отправлять как можно дальше от войны с пожизненным белым билетом до седьмого колена. Потому что они — генофонд нации. Лучшее, что в нас есть.
Кто несет ответственность за эту дыру в нашем будущем, которая не будет восстановлена уже никогда, потому что ее вырвало вместе с Мухиной печенью во дворе двухэтажного дома частного сектора города Грозного?
Для меня именно его смерть олицетворяет всю преступность войны, больше чем десятки других, пришедших в бою.
Потом, уже в нашем подвале, Игорь сказал:
— Рапорта, рапорта. Теперь его рапорт нужен только для того, чтобы показать матери: видите, мы его не заставляли. Ваш сын сам вызвался добровольцем.
Муху убили в январе. Раньше мне казалось, что дату его смерти я буду помнить всегда, но время и вправду лечит, и люди, бывшие главными в моей жизни, бывшие самой жизнью, все больше и больше отодвигаются в темноту, туда, где мы, конечно же, встретимся, но — потом. Пока же они оставляют меня на время в покое, давая возможность жить.
Вероятно, это случилось десятого января. Во всяком случае, так написано в моих набросках в солдатском блокноте, вырезанном из толстой тетради, которые я начал делать сразу после войны: «Штурм начался 17-го. Эту дату я запомнил хорошо. Потому что 10-го убили Муху, а штурм начался через неделю». Скорее всего, так оно и есть.
Как-то слишком выспренно у меня получилось написать о нем. Муха был проще. Понятнее. Прямее. Возможно, все это мои фантазии. Возможно, я просто хотел бы видеть его таким, а он был другой. Но я думаю, что понял его внутренний мир. Люди не могли выразить это словами — в русском языке все равно слишком мало слов, чтобы отобразить все нюансы, да и профессорами филологии мы не блистали, — но я видел их глаза и думаю, что понял все правильно.
Как бы там ни было, я просто хочу, чтобы вы знали, что был такой парень — Муха. Который не хотел войны, но был убит на ней первым.
Я не знаю, что сообщили матери о его смерти, но все же напишу его фамилию.
Его фамилия была Мухтаров.
Имени я никогда не знал.
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:
+7 (929) 612-03-68